Поездка на родину предков или
Путешествие к началу того, что мы называем сегодня современной цивилизацией
OVernerМодератор раздела  Зеленоград Сообщений: 1472 На сайте с 2008 г. Рейтинг: 4733 | Наверх ##
23 января 2024 0:05 Хотя турецкое автопутешествие грозило сорваться, едва начавшись, по причине забытых дома водительских прав, за неделю мы проехали 1500 км по центральной и юго-восточной Анатолии, от Каппадокии до Киликии. При этом ухитрились успешно пройти полицейскую проверку документов (права так и не потребовались), и за проезд по платным дорогам (с транспондером) нам даже не пришлось платить. Очень выручил Островок, на котором бронировали отели по маршруту за рубли (кормить прочие букинги больше не будем, даже если одумаются). У нас были намечены три реперные точки: раннее христианство в каппадокийских скальных церквах, античные мозаики Зюгмы и неолитическое Гебекли Тепе (собственно, родину наших общих предков  ). Но по пути мы еще успели заехать к апостолу Павлу в Тарсус и к пророку Аврааму в Урфу. Из каппадокийской зимы с редкими китайскими туристами и сбежавшими из своего лета латиноамериканцами переехали в совсем не туристический Газиантеп, а потом в еще менее популярную Шанлыурфу, вернулись в Адану, где в декабре было вполне себе лето, и не доехали оттуда до теплого моря всего-то час - устали от переездов. Крутой замес цивилизаций и культур в Турции - огромный потенциал для «интеллектуального туризма». Кроме традиционных поисков Византии и Греции, есть еще хетты, фригийцы и неолитические индоевропейцы… И османы, конечно. После Стамбула и турецких курортов настоящая Турция удивляет, она другая. Мы ее краешком глаза увидали - понравилось. С одной стороны, все аутентично-восточное: еда (кебаб в йогурте, айран, шалгам и холодная баклава с шоколадом из Газиантепа - это must), ароматы, одежда (от мини-юбок в Адане до черных хиджабов и традиционных нарядов, расшитых золотом, на улицах Урфы), нескончаемые базары в лабиринтах улиц (навигатор бессилен проложить маршрут между улицами 14002 и 14022) и плотный людской поток. С другой, впечатляюще развивающаяся современная страна - масштаб строящихся кварталов в регионах очень велик. Отличные современные музеи с бесплатными аудиогидами и инфоматами. В Шанлыурфе проехали по длинному бульвару Реджепа Тайипа Эрдогана, да. Научились переходить дорогу, как местные: сгруппировавшись, быстро перебежать на другую сторону на зеленый свет перед автомобилями, которые едут на зеленый, красный и по встречной полосе. К своему удивлению, ни разу не столкнулись с навязчивым сервисом и пресловутым бакшишем. Жаль только, не работали археологические музеи в Газиантепе и Шанлыурфе - зима же, да и случившееся землетрясение. И погода для воздушных шаров в Каппадокии была нелетная. Так что есть еще один повод вернуться.            | | Лайк (10) |
| lu043
ДВ
Сообщений: 909
На сайте с 2019 г.
Рейтинг: 2819
| Наверх ##
23 января 2024 0:10 Скажите, пожалуйста, фото мечети сверху это Ваше фото? ---
Ищу информацию о Бородиных (Бородиновых) (с. Заломное Курской губ., ст. Лабинская), Шаферовых (г. Лабинск, Киев, Алушта, Армавир), Ягодиных (Москов. губ, Иркутск), Виноградовых (Костром. губ., ст. Лабинская), Корнюшко (Минская губ), Фроловых (Армавир, Ленинград), Конько (Карачаевск) | | Лайк (1) |
OVernerМодератор раздела  Зеленоград Сообщений: 1472 На сайте с 2008 г. Рейтинг: 4733 | Наверх ##
23 января 2024 0:12 23 января 2024 0:20 lu043 написал: [q] Скажите, пожалуйста, фото мечети сверху это Ваше фото?[/q]
Все фото мои или моей лучшей половины  Фото мечети сверху - из иллюминатора самолета на пути домой. | | Лайк (2) |
| lu043
ДВ
Сообщений: 909
На сайте с 2019 г.
Рейтинг: 2819
| Наверх ##
23 января 2024 0:22 23 января 2024 1:50 OVerner
Я обзавидовалась. Так и знайте.))))
И Вашим впечатлениями, и фото. Я люблю фотать из иллюминатора самолёта, поэтому места беру только там. Понятно, что на один эффектный кадр приходится десяток обыкновенных, но он того стоит.
Ещё раз спасибо за рассказ. У Вас лёгкий слог. Вы пишете? ---
Ищу информацию о Бородиных (Бородиновых) (с. Заломное Курской губ., ст. Лабинская), Шаферовых (г. Лабинск, Киев, Алушта, Армавир), Ягодиных (Москов. губ, Иркутск), Виноградовых (Костром. губ., ст. Лабинская), Корнюшко (Минская губ), Фроловых (Армавир, Ленинград), Конько (Карачаевск) | | Лайк (1) |
OVernerМодератор раздела  Зеленоград Сообщений: 1472 На сайте с 2008 г. Рейтинг: 4733 | Наверх ##
23 января 2024 8:42 lu043 написал: [q] Вы пишете?[/q]
В основном план-проспекты  | | |
| lu043
ДВ
Сообщений: 909
На сайте с 2019 г.
Рейтинг: 2819
| Наверх ##
23 января 2024 8:53 OVerner
Пусть они сбудутся.))))
Буду ждать новых постов в этой теме.
Всего доброго))) ---
Ищу информацию о Бородиных (Бородиновых) (с. Заломное Курской губ., ст. Лабинская), Шаферовых (г. Лабинск, Киев, Алушта, Армавир), Ягодиных (Москов. губ, Иркутск), Виноградовых (Костром. губ., ст. Лабинская), Корнюшко (Минская губ), Фроловых (Армавир, Ленинград), Конько (Карачаевск) | | |
OVernerМодератор раздела  Зеленоград Сообщений: 1472 На сайте с 2008 г. Рейтинг: 4733 | Наверх ##
30 января 2024 11:23 Secrets of Karahan Tepe: The Discovery of a Stunning Winter Solstice Alignment (Part 1 – UPDATE)Karahan Tepe: The Winter Solstice, Fertility and the Genesis of Agriculture (Part 2)by Hugh Newman and JJ Ainsworth 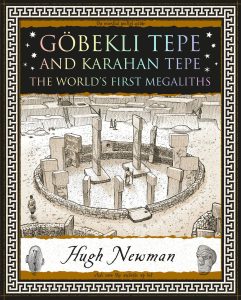 Что было первым – храмы или сельское хозяйство? Что было первым – храмы или сельское хозяйство?
Долгое время считалось, что сельское хозяйство повлияло на строительство каменных построек и деревянных зданий, требуя оседлых сообществ для реализации подобных грандиозных проектов. Однако сейчас предполагается, что сельское хозяйство было начато после этапа строительства. Нечми Карул подчеркнул, что земледелие получило развитие вскоре после постройки Гёбекли-Тепе и Карахан-Тепе, намекая на прямую связь между строительством этих объектов и началом земледелия. Клаус Шмидт, первый археолог, раскопавший Гёбекли-Тепе, заявил:
«Сложная социальная организация и выполнение ритуалов на самом деле предшествовали постоянному поселению и сельскому хозяйству, и что люди, которые объединились и построили монументальные сооружения, были кочевыми охотниками-собирателями… в конечном итоге требования собрать этих кочевников вместе в одном Место, где можно было вырезать и перемещать огромные Т-образные колонны, а также строить круглые ограждения, подтолкнуло их сделать следующий шаг и начать одомашнивать растения и животных, чтобы создать более надежные запасы продовольствия. Эти инновации распространились с вершины холма по всему региону и, в конечном итоге, по всему миру. Ритуалы и религия, казалось, положили начало неолитической революции, а не наоборот. «Сначала храм, потом город».
Поскольку Карахан-Тепе был построен до развития сельского хозяйства, и, учитывая доказательства, которые сейчас появляются, кажется, что это могло быть создано, чтобы инициировать эти изменения, используя астрономию, календари, симпатическую магию, символы и ритуалы в попытке принести плодородие земле, посевам и животным, их начали приручать и они стали размножаться. Все это может указывать на то, что Карахан Тепе был ответвлением, созданным для поощрения этих новых способов, а также для точной настройки календаря, чтобы сделать все это возможным, став их новым центром инноваций.
Однако это не объясняет, почему в непосредственной близости от Карахан-Тепе не обнаружено никаких признаков растительности (за исключением современных оливковых рощ и фисташковых ферм), а также отсутствия деревьев, естественных источников воды и лишь тонкие слои почвы, что предполагает, что это не было местом для производства продуктов питания. В таком случае, было ли это место, куда привозили семена и зерна для улучшения, чтобы помочь в выращивании продуктов питания, а затем сажали в другом месте? Была ли это секретная, научная, церемониальная станция для загрузки семян, созданная в качестве форпоста народом Гёбекли-Тепе (где имело место множество свидетельств измельчения зерна и приготовления пищи?)? Посещали ли племена этот район в определенное время года, чтобы провести эти церемонии и попытаться пополнить свои запасы зерна?
| | Лайк (4) |
valcha https://forum.vgd.ru/349/  Сообщений: 25315 На сайте с 2006 г. Рейтинг: 21264 | Наверх ##
30 января 2024 13:06 30 января 2024 23:15 .«Копейный ездец», пардус и петух.............. Другой «охотничьей эмблемой» Москвы стал «пардус» -- то ли барс, то ли гепард… то ли Бог весть какое хищное кошачье. Многие видели в этом кошачьем льва – символ Владимирской земли, которая стала владением московских князей. Но как ни приглядывайся к зверю, а львиной гривы у него не сыщешь. В древности была распространена охота с пардусом – дело еще более дорогое и аристократическое, нежели охота соколиная. На Руси ее знали. Она являлась уделом князей, признаком богатства и могущества. Поэтому, очевидно, пардус и перескочил из азартных лесных забав на монеты......барс или леопард (самец) ◆ Habitabit lupus cum agno, et pardus cum hædo accubabit ; vitulus, et leo, et ovis, simul morabuntur, et puer parvulus minabit eos. — Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. «Исаия», 11:6 // «Вульгата» ---
Платным поиском не занимаюсь. В личке НЕ консультирую. Задавайте, пож-ста, вопросы в соответствующих темах, вам там ответЯТ.
митоГаплогруппа H1b | | Лайк (3) |
valcha https://forum.vgd.ru/349/  Сообщений: 25315 На сайте с 2006 г. Рейтинг: 21264 | Наверх ##
30 января 2024 23:32 Бунина О.П. К вопросу происхождения и семантики декоративной керамики собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря..Квадратные плитки с изображением животного в круге Животные на терракотах ферапонтовского собора исследователями определяются как «барсы»[xlii], либо просто «звери»[xliii]. Их фигуры имеют черты близкие хищникам семейства кошачьих – пластичное тело, когти на лапах, между которыми протянут хвост, завершенный кисточкой, напоминая, однако, во многом и изображение коня – высокая выгнутая шея, заостренные уши (рис. 6). Одно из самых ранних изображений некоего зверя, известных в декоративном храмовом убранстве, встречается на капителях Борисоглебского собора в Чернигове, датируемых первой четвертью XII века (рис. 7). Исследователь памятника Е.В. Воробъева называет этого зверя «пардусом» и отмечает: «Достаточно реалистическое изображение зверей говорит о знакомстве мастеров с этими животными. Гепарды под именем пардусов были хорошо известны в княжеском быту. Так, в 1147 году, сын Святослава Ольговича – Олег преподносит в дар князю Юрию Долгорукому пардуса[xliv]. Показательно, что изображения пардусов были достаточно распространены в древнерусском искусстве, начиная с фрески северной башни Софии Киевской (XI в.), рисунка на полях изборника князя Святослава (1073), инициалов Юрьевского Евангелия (1120–1128), на ювелирных украшениях, утвари, монетах»[xlv]. В Лаврентьевской летописи воины Святослава Игоревича сравниваются с пардусами – «храбры и легъко ходя аки пардус»[xlvi]. Достаточно хорошо изучены и опубликованы изображения пардусов в декоре храмов Владимиро-Суздальского княжества XII–XIII веков (рис. 8–9). М.А. Гладкая предлагает применять для зверя, подобного одновременно барсу, волку и собаке, также древнерусское название «пардус», сохраняя за ним символические значения образов волка и собаки. Волк в представлении многих народов являл собой образ вождя племени, его почитание отражало культ предводителя дружины. В.П. Даркевич отмечал, что в византийской культуре именно воины сравнивались с леопардами и волками. Эта византийская воинская традиция обусловила популярность данного мотива в княжеской среде древней Руси[xlvii]. Гепарды были любимыми животными, которых использовали знатные византийцы для охоты[xlviii]. На фреске итальянского живописца Беноццо Гоццоли «Шествие волхвов» (1459 год) изображена аллюзия на конкретное историческое событие: греческая миссия на Ферраро-Флорентийский собор. Отец Софьи Палеолог – деспот Фома запечатлен в образе молодого аристократа на коне, ведущего двух гепардов (рис. 19), что, по мнению исследователей, имело определенный смысловой подтекст. Гепарды олицетворяли борьбу христиан против османов и были аллегорией устойчивости Палеологов против турок[xlix]. Учитывая вышеприведенные изыскания можно и для «ферапонтовского зверя» предложить применять название «пардус». Следующий известный зооморфный барельеф из церкви зачатия Иоанна Предтечи на Городище в Коломне датируется первой третью XIV века[l] (рис. 10). Н.Н. Воронин определяет изображенного на нем зверя как единорога. Ему возражает С.В. Заграевский, видя в нем мифическое существо – василиска. Можно отметить, что зверь на плитке городищенской церкви походит на ферапонтовского пардуса фактурой и пластикой тела, в связи с чем В.П. Выголов представляет животное барсом[li]. Изображение пардуса на напольной плитке из Галича, первой трети XIII века, несколько схоже по композиции с плиткой ферапонтовского собора, – шествующий зверь обрамлен кругом (рис. 11). В прикладном искусстве конца XV века зооморфные изображения зверя подобного пардусу известны по рукояти тверской сабли и трем резным посохам (рис. 12–13). Предметы, изготовлены из моржового клыка и датируются 1480-ми годами[lii]. Посохи отличаются тонкой и затейливой резьбой и представляют весь известный на Руси в конце XV века бестиарий – различных животных – реальных и мифических, экзотических и невиданных. Один посох принадлежал митрополиту Геронтию, два других – великому князю Ивану III. На посохе митрополита Геронтия изображен растительный мотив, похожий на тот, что использован на плитах Рождественского собора – лилия, под лепестками которой представлены два резных пальмовых листа. По замечанию Л.И. Ремпеля: «В декоративно-прикладном искусстве одни и те же сюжеты повторялись многократно в творчестве разных народов. Они получали при этом свое местное значение и смысл, свое собственное содержание. Художник часто достигал этого приближением мотивов в изображении животных, растений к условиям местной флоры и фауны, а в фигурных сценах с участием человека облекал его в местные одежды, наделял его местными атрибутами»[liii]. Возможно своеобразным «местным» пониманием этого животного можно объяснить стилизованную трактовку ферапонтовского пардуса. По замечанию В.П. Выголова, его фигура почти лишена дополнительной разделки и своей ровной округлостью напоминает скорее изображение коня, известное позднему народному творчеству[liv]. Подчеркивая охранительную функцию пардуса, В.П. Выголов интерпретирует его образ в качестве геральдической эмблемы владимиро-суздальских князей и их потомков в удельных княжествах[lv]. Охранительное значение пардуса на фасаде ферапонтовского собора становится приоритетным в богословском понимании храма как Небесного Иерусалима, у дверей которого зверь совершает свое неусыпное шествие. Выделение западного входа как главного подчеркнуто более богатым и сложным архитектурным оформлением, выполненным, в отличие от южного и северного, из белого камня. Геральдическая символика зверя- пардуса не так однозначна. «Изображения подобные пардусу встречаются на монетах многих русских князей: московского князя Василия I (1389–1425), тверских князей: Ивана Михайловича (1399–1425), Бориса Александровича (1425–1461), Михаила Борисовича (1461–1485), ростовских князей начала XV века, суздальско-нижегородского князя Василия Дмитриевича Кирдяпы (втор. пол. XIV века). В сфрагистике XV века изображения подобного зверя известны на печатях Новгорода. Видеть в этих изображениях символ владения великокняжеским столом, символ преемственности от Владимирского великого княжения, думается, неправомерно. Тем более, что никаких претензий на статус великих князей владимирских тверские князья в XV веке не предъявляли (тем более это относится к ростовским князьям). Изображения различных приблизительно схожих зверей, спорадически возникающие в разных центрах и на разных материальных «носителях», еще не свидетельствует о заимствовании эмблемы одним центром от другого. И распространенность эмблем льва в архитектурном декоре Владимиро-Суздальской Руси домонгольского времени, изображения неизвестных зверей на отдельных монетных типах московских и тверских князей в XV веке, новгородских печатях – три самостоятельных и не связанных между собой символических явления»[lvi]. На монетах Ивана III изображение шагающего пардуса сопровождалось надписью «государь всей Руси» (надписи на монетах того времени отличались, например, на монете с изображением птицы надпись – «князя великого»)[lvii]. Здесь уместно вспомнить, что пардус был подарен в Москве – Юрию Владимировичу Долгорукому – черниговскими князьями, и что предполагаемый заказчик строительства собора Рождества Богородицы, – архиепископ Иоасаф Оболенский, происходил из черниговской ветви русских князей[lviii]. ---
Платным поиском не занимаюсь. В личке НЕ консультирую. Задавайте, пож-ста, вопросы в соответствующих темах, вам там ответЯТ.
митоГаплогруппа H1b | | Лайк (6) |
valcha https://forum.vgd.ru/349/  Сообщений: 25315 На сайте с 2006 г. Рейтинг: 21264 | Наверх ##
31 января 2024 19:36 ---
Платным поиском не занимаюсь. В личке НЕ консультирую. Задавайте, пож-ста, вопросы в соответствующих темах, вам там ответЯТ.
митоГаплогруппа H1b | | Лайк (3) |
|