Книжная полка
Мильчина, В. Париж в 1814–1848 годах: повседневная жизнь / Вера Аркадьевна Мильчина.
— М.: Новое литературное обозрение, 2013. — 944 с.: ил. ISBN 978-5-4448-0068-3
Серия:
Культура повседневностиПариж первой половины XIX века был и похож, и не похож на современную столицу Франции.
С одной стороны, это был город роскошных магазинов и блестящих витрин, с оживленным движением городского транспорта
и даже "пробками" на улицах. С другой стороны, здесь по мостовой лились потоки грязи, а во дворах содержали коров,
свиней и домашнюю птицу. Книга историка русско-французских культурных связей Веры Мильчиной - это подробное
и увлекательное описание самых разных сторон парижской жизни в позапрошлом столетии.
Как складывался день и год жителей Парижа в 1814-1848 годах? Как парижане торговали и как ходили за покупками?
как ели в кафе и в ресторанах? как принимали ванну и как играли в карты? как развлекались и, по выражению
русского мемуариста, "зевали по улицам"? как читали газеты и на чем ездили по городу? что смотрели в театрах и музеях?
где учились и где молились? Ответы на эти и многие другие вопросы содержатся в книге, куда включены пространные
фрагменты из записок русских путешественников и очерков французских бытописателей первой половины XIX века.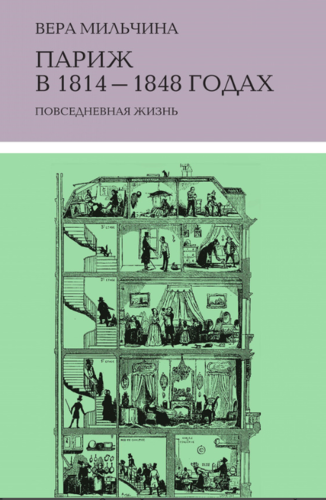
 http://issuu.com/premiaprosvetitel/docs/kultura1 «Хвост» в парламент и театр
http://issuu.com/premiaprosvetitel/docs/kultura1 «Хвост» в парламент и театр. В июльскую монархию парламентские прения стали таким же зрелищем, как театр или цирк:
в парламенте и в палате депутатов были отведены специальные места для зрителей. Чтобы попасть туда, нужно было отстоять
в огромной очереди, которую называли «хвост». Андрей Николаевич Карамзин рассказывал в письме к матери в 1837 году,
что хотя парламент открывался в 12 часов, на лестнице под открытым небом в мороз «хвост» стоял с 8 утра.
Ушлые молодые люди торговали местами в очереди: кто платил больше, вставал ближе. «Я заплатил 5 франков,
встал четвертым, подождал полчаса, продрог и ушел», — писал Карамзин. Точно так же становились в «хвост»,
чтобы продать или купить места в очереди в театр.
Париж зловонный. Андрей Николаевич Карамзин едет из Страсбурга в Париж и пишет: «Ближе, ближе, завоняло,
ужасно завоняло, ура, мы приехали!» Париж с 1814 по 1848 годы был грязным городом. Канализация и сточные трубы
уже были, но часто не уходили под землю, а проходили по центру улицы, к тому же жители нередко выливали помои
и выбрасывали вещи прямо из окон. Напрасно светская писательница Дельфина де Жирарден заклинала горожан
не выставлять на всеобщее обозрение «ожившего меню вчерашних обедов!».
Непроходимая грязь Елисейских полей. Елисейские поля в те времена были парком, а не роскошной улицей
с дорогими магазинами. Андрей Николаевич Карамзин пишет о «непроходимой грязи Елисейских полей», другой русский
свидетель, Василий Петрович Боткин, рассказывает о Елисейских полях как о месте ярмарочных гуляний:
«Тут возвещает химик, что вы можете в несколько минут постигнуть все таинства природы и все это только за два су.
Вот академия собак, и ученый член ее говорит длинную речь о трудности, системе и пользе образования собак…
Там дородная дама показывает образованность удава, обвивает его около шеи, берет в рот его голову и рекомендует,
что он по своему уму годится в любые министры».
Жирафа. Египетский паша хотел подружиться с французским королем и послал ему в дар жирафу — животное,
которого не видали в Европе с XVI века, поэтому зрелище перехода жирафы из Марселя в Париж стало грандиозным событием.
Она шла в сопровождении молочных коров, трех погонщиков, знаменитого естествоиспытателя и конных жандармов.
Покрыта она была непромокаемой попоной, украшенной французским гербом. За один месяц, чтобы посмотреть на жирафу,
в зоологическим парке побывало не менее 60 тысяч посетителей, а жирафа настолько вошла в моду, что были изобретены
«цвет жирафьего брюха», «цвет влюбленной жирафы», «цвет жирафы в изгнании», способ завязывать мужские галстуки
на манер жирафы и даже жирафий грипп.
Парламент или обезьянник? Непредвзятый взгляд на парламентские прения с точки зрения жирафы, экзотического
подарка Карлу X от египетского паши, изложил Шарль Нодье в «Записках жирафы из зоологического сада»:
«Люди, представшие моему взору, бросались вперед, подпрыгивали вверх, соединялись во множество мелких группок,
скалили зубы, прерывали противников угрожающими крикам и жестами, пугали их отвратительными гримасами».
Оказалось, правда, что жирафа по неопытности приняла за палату депутатов главный обезьянник.
Найм стульев. В Париже существовала такая профессия, как держательница стульев. За немалые деньги она выкупала
у церковного совета право сдавать стулья в церкви. Платили за использование стульев совсем немного, желающих посидеть
во время службы было в избытке, так что держательница стульев быстро возвращала себе деньги, потраченные на
покупку этой должности. Стулья также сдавались в наем на бульварах. Самым модным был бульвар Итальянцев,
при этом южная сторона была более модной, чем северная. Одни прогуливались, а другие на них смотрели, и чтобы не
уставали ноги, нанимали стулья. «Держать стулья» в церкви было надежнее, чем на бульваре, потому что в церкви поймать
тех, кто не заплатил пятачок легко, а на бульваре или в саду Тюильри очень трудно.
Зевать по улицам. Дмитрий Николаевич Свербеев писал, что Париж — это город, в котором как ни в каком другом
месте удобно зевать по улицам. При этом существовало два смежных понятия: простой зевака и фланер — человек,
не обремененный никакими обязанностями и способный превратить в зрелище даже то, что до этого таковым не являлось.
Бальзак писал в «Физиологии брака»: «Большинство людей ходят по улицам Парижа так же, как едят и живут — бездумно…
Гулять — значит прозябать, фланировать — значит жить, значит наслаждаться, запоминать острые слова, восхищаться величественными картинами несчастья, любви, радости, идеальными или карикатурными портретами…
Для юноши фланировать значит всего желать и всем овладевать. Для старца — жить жизнью юноши и увлекаться
их страстями».
Зрелища по-королевски. И в эпоху Реставрации, и в эпоху Июльской монархии были зрелища, устраивавшиеся королевской семьей. Людовик XVIII, вернувшись из двадцатилетней эмиграции в Англии, немедленно после высадки в Кале организовал
«большой стол» — обед, во время которого все королевское семейство вкушали пищу на радость публики двух сортов.
Люди попроще имели право пройти по галерее, при этом, как вспоминал Фенимор Купер, сам присутствовавший на
этом обеде, головы их, точно подсолнухи, были повернуты в сторону короля. Важные особы имели билеты в амфитеатр.
Король и семейство полтора часа обедали и ужасно при это скучали, не имея возможности поговорить
Впрочем, существуют свидетельства, что герцогиня Беррийская в свою очередь с любопытством разглядывала
публику чуть ли не в бинокль.
Суды как зрелища трагические и комические. Владимир Михайлович Строев писал, что к увеселениям можно отнести и суды,
куда часто ходили парижане, когда у них не было денег на театр. Если они хотели ощущений грустных, а их душа жаждала
трагедии, то они шли в суд присяжных, где судили настоящих преступников. Если парижанин хотел повеселиться или разогнать
скуку, то он шел в суд исправительной полиции, где преступники не отвратительны и не гнусны, а наказания не ужасны.
Там происходили самые уморительные ситуации: например, франт мог оправдываться за то, что танцевал на балу
запрещенный танец.
Двух глаз мало. Все в Париже первой половины XIX века немедленно превращалось в зрелище.
Петр Андреевич Вяземский, который был в Париже в 1838 году, писал: «Вообще мало времени в здешних сутках,
да и всей природы человеческой мало — куда здесь с одним желудком, с одною головою, двумя глазами, двумя ногами
и так далее. Это хорошо для Тамбова. А здесь с таким капиталом жить нельзя». Федор Николаевич Глинка, бывший
в Париже летом 1814 года, в «Письмах русского офицера» писал, что почти на каждом шагу в Париже что-нибудь да п
оказывают: «Слово «показывают» вертится беспрестанно на языке парижан. С некоторого времени у них все
сделалось показным. И все великие происшествия как будто им были только показаны. В одном конце Парижа рубили головы,
а в другом смеялись и говорили: «там показывают действие гильотины». Эта фраза могла бы стать хорошим эпиграфом ко всему,
что происходило в повседневной жизни Парижа эпох Реставрации и Июльской монархии.
ГризеткиНаш соотечественник В.М. Строев, посвятивший парижской гризетке несколько проницательных страниц,
приводит собственный перевод определения гризетки из французского словаря — «молодая нестрогая швея»; далее он пишет:
«Так называют швей, учениц в магазинах, золотошвеек, вообще всех молодых девушек, которые живут ручною работою.
Гризетка всегда бежит за делом, но заглядывает в каждое магазинное окно, на чепчики, шляпки и платья; от мужчин
отпрыгивает, как серна; перебегает от них на другую сторону, но вообще любит разговоры и объяснения.
Она всегда одета просто, сквозь легкий чепчик видна прелестная черная коса; коротенькое темное платье прикрыто
чистым передником; тоненькая косыночка едва закрывает мраморные плечи. Гризетки являются на улицах, возвращаясь
домой с работы, вечером, а… la nuit tous les chats sont gris [ночью все кошки серы]; все гризетки хороши, потому что свежи,
молоды, румяны, смотрят лукаво. Они не выходят замуж; такой уж между ними обычай; выбирают друга и остаются ему
верными, пока он их не бросит. Гризетка в двадцать лет начинает думать о будущем и переходит в категорию модистки,
если скопила довольно денег на первое обзаведение, или в femme galante, если красота обещает ей продолжительные
успехи и победы над мужчинами. Старых гризеток нет; с мыслию о гризетке соединено понятие о молодости, свежести,
силе; нет также и дурных гризеток, потому что дурную гризетку просто называют девчонкой».

Эрнест Депре перечисляет профессии гризеток — красильщица, вышивальщица, кожевница, прачка, перчаточница,
басонщица, галантерейщица, цветочница, продавщица игрушек, портниха, белошвейка — и «еще множество других
ремесел, о существовании которых светские люди даже не подозревают». Журналист сообщает и примерный бюджет гризетки:
в среднем она зарабатывает 30 су (полтора франка) в день, что составляет 547 франков 50 сантимов в год. Эти деньги идут на оплату жилья, еды, свечей, угля, воды и прочих жизненно необходимых вещей, но их не хватает на новые наряды и развлечения, поэтому гризетка всегда рада помощи состоятельного друга-ухажера.
Жанен описывает «типовые» любовные отношения гризетки. По его словам, гризетка вселяет радостную и бескорыстную
любовь в сердца неоперившихся студентов — «полководцев без шпаги, ораторов без трибуны»; всякий юноша, живущий в
Париже на скудное родительское довольствие и питающийся надеждами, — покоритель и повелитель гризеток.
Совместная жизнь студента и гризетки протекает следующим образом: всю неделю каждый из них трудится на своем месте,
зато в воскресенье гризетка откладывает иглу, а студент — книги, и они отдают дань парижским развлечениям.
Так продолжается до тех пор, пока студент не женится, соблазнившись выгодной партией и богатым приданым.
Тогда гризетка, поплакав, либо влюбляется в другого студента, либо выходит замуж, и вся поэзия ее жизни пропадает…
Старички Габора действительно напоминают старых добрых гномиков...
Спасибо, Таня!