Тифлис-Тбилиси, ссылки, фото
Тифлис и Тбилиси, старые фотографии и открытки, интересные ссылки; недавние фотографии Тбилиси
| snegirev
Сообщений: 1306
На сайте с 2014 г.
Рейтинг: 38491
| Наверх ##
5 августа 2019 23:13 5 июня 2022 18:38 Тифлис времен Воронцова. Культура. Искусство. Просвещение М.С. Воронцов с рвением занимался устройством дорог. Он один из первых начал завоевание Кавказа «с помощью топора»: были построены мосты на реках Куре, Тереке, Сунже, Лабе, Белой, положено начало пароходным сообщениям по Черному и Каспийскому морям и по реке Куре, проведено размежение закавказских земель, построен в 1850 г. Оллагирский сребросвинцовый завод. Так же как и в Новороссии, наместник заботился о развитии в крае виноградарства, виноделия, шелководства, коневодства и других направлений в сельском хозяйстве.  Михаил Семенович Воронцов. Фото: https://odessitclub.org/images/oksana/Vorontzov1.jpgИ все же одной из главных сфер деятельности князя было развитие просвещения, науки, искусства. Так, в Тифлисе в 1848 г. начинает издаваться газета «Кавказ», преобразуется «Закавказский вестник», заменивший для всех закавказских губерний «Губернские ведомости». Совокупное действие четырех газет в Одессе и Тифлисе приблизило отдаленные территории Новороссии и Кавказа к России. Успех Новороссийского календаря побудил Воронцова издавать в 1847 г. подобный и в Тифлисе. Календарь содержал богатый исторический, географический, топографический и другой материал, собранный талантливыми и трудолюбивыми людьми. Открыв публичную библиотеку в Одессе, Михаил Семенович дарит ей перед отъездом на Кавказ около 400 томов своих дорогих и редких изданий, а в 1846 г. учреждает при канцелярии наместника библиотеку из книг, пожертвованных им самим, частными лицами, присланных из разных университетов. После подготовки достойного здания в 1859 г. в Тифлисе была открыта Публичная библиотека, что для многоязычного разноплеменного края было событием. Владея древними языками — латинским и греческим, еще в детстве зачитываясь древними классиками, М.С. Воронцов прекрасно осознавал важность изучения древних цивилизаций на территории Кавказа. В 1846 г. в Тифлисе при наместнической канцелярии было положено начало местной нумизматической коллекции. Труды известных ученых, приглашенных князем, среди которых Броссе, Бартоломей, Иосселиани, Ханыков и др., сыграли и неоценимую роль в изучении Кавказского края. Для внедрения достижений науки в развитие сельского хозяйства в 1850 г. в Тифлисе учреждено Закавказское общество сельского хозяйства, подобное Обществу сельского хозяйства Южной России, открытому Воронцовым в 1828 г. в Одессе. В 1850 г. на Кавказе было положено начало Кавказскому отделу Русского географического общества: магнитной и метеорологической обсерватории, составлен план восхождения на Арарат. Вскоре по прибытии в Тифлис Воронцов учредил мусульманское училище Алиевой секты, основал в 1849 г. отдельный Кавказский учебный округ, преобразовал и открыл уездные училища во многих городах. При участии супруги Воронцова Елизаветы Ксаверьевны для дочерей недостаточно обеспеченных семей были открыты заведения Святой Нины в Тифлисе, Кутаиси, Шемахе, Святой Александры в Ставрополе, Святой Рипсилии в Ереване. Патриарх Нерсес сделал крупное денежное пожертвование для женского училища Святой Рипсилии и уговорил отдать туда девочек не только из армянских семей, но и дочерей мусульманских беков. 2 января 1850 г. училище было открыто и вверено попечению Елизаветы Егоровны Назоровой, жены Эриванского губернатора. Первые работы учащихся — вышивки — получил в дар Патриарх Нерсес. В ответ училище получило лестный отзыв Патриарха и 300 рублей из его личных средств. По этому поводу Елизавета Ксаверьевна писала Нерсесу, что благодарит Патриарха за щедрое пожертвование и между тем она считает своим долгом представить ему отчет об использовании этих средств. Летом 1851 г. Нерсес подарил заведению в урочище Рипсилии значительный участок церковной земли в урочище Дарачичаг для летнего помещения. На протяжении всей жизни Патриарх Нерсес содействовал развитию женского образования в Армении. Уже после смерти Воронцова Елизавета Ксаверьевна пожертвовала 200 тысяч рублей серебром на пять основанных ею женских благотворительных учреждений, в том числе выдачу при выпуске каждой воспитаннице 200 рублей пособия. Воронцов отправлял специалистов для исследования малоизученных областей Кавказского края. Так, академик Г.В. Абих совершал путешествие по Кавказу и на Арарат, И.А. Бартоломей — по всему Кавказу, академик М.И. Броссе по Грузии, Кахетии. Ученые, военные, чиновники, художники, литераторы, приезжая в то время на Кавказ, в большинстве своем останавливались в Тифлисе, в резиденции наместника. Будучи административным центром Грузинской губернии (с 1846 г. Тифлисской), Тифлис являлся на Кавказе центральным пунктом по закупке сырья и реализации продуктов. Через Тифлис Россия устанавливала дипломатические и торговые отношения со странами Востока. Французский консул Гамба, находившийся в городе в 20-х годах XIX столетия, писал: «В Тифлис в один и тот же день приезжают — негоцианты из Парижа, курьеры из Петербурга, купцы из Константинополя, англичане из Калькутты и Мадраса, армяне из Смирны, езиды и узбеки из Бухары, так что этот город может посчитаться главным узловым пунктом между Европой и Азией». В Тифлисе европейские обычаи преломлялись сквозь призму местных традиций. Здесь соседствовали фрак и чоха, чепчик и чадра, караван и карета, итальянская ария и строгая грузинская полифоническая песня, полонез и лезгинка, европейские магазины и восточный базар. Став после присоединения Грузии к России резиденцией главнокомандующих кавказской армией, Тифлис повидал многое и многих. В разные периоды город становился резиденцией генералов Кноринга 2-го, князя Цицианова, графа Гудовича, Ртищева, Ермолова, Нейндгардта и других. Согласно воспоминаниям современников с приездом М.С. Воронцова в Тифлис жизнь города начала приобретать иной склад и характер. Воронцов умел приближать людей способных, трудолюбивых и исполнительных. «От самого обнищавшего туземца до горделивой княгини, ведущей свой род от царя Давида, все невольно покорялись воронцовской обаятельности и умению приласкать и покорять людей <...>. Общество русское, хотя тогда еще небольшое, было тем не менее в Тифлисе избранное, общество туземное <...> с каждым днем все более и более примыкало к нему»1. Люди, прибывшие с князем в 1845 г. в Тифлис и приезжающие впоследствии из столиц, вносили в жизнь города новые понятия, новые взгляды. Европейская культура постепенно начала теснить восточную патриархальную обстановку. Модистки из Одессы и Парижа прививали вкус к европейским туалетам, постепенно заменяющим грузинские чадры и шелковые платья. Куафер Влотте, приехавший в Тифлис с ножницами и гребенкой, открывает огромный магазин и модное ателье. «На левом берегу Куры образовывались целые новые кварталы до самой немецкой колонии со всеми условиями европейского города, особенно с устройством нового Воронцовского моста, взамен прежнего <...>. <Князь и княгиня> давали пример своею домашней обстановкой простоты и не особенной изысканности. В доме главнокомандующего оставалась та же казенная меблировка, стол князя, всегда, впрочем, вкусный, не отличался никакою изысканностью, вино подавалось кахетинское или крымское, в походе же и в дороге князь решительно ничем особенно не отличался от прочих, разве только в размерах широкого своего гостеприимства и обаяния своего простого и приветливого со всеми обращения <...>. Именно вследствие естественной простоты его всякий сознавал невольно, что он принадлежит к другому высшему кругу, как по понятиям, так по нравам и привычкам прошлого»2. С годами доброта князя к некоторым лицам стала доходить до крайности. Он не мог отказывать слишком настойчивым просителям, чем не замедлили воспользоваться многие из тех, кто последовал в Тифлис, узнав о назначении М.С. Воронцова. Но в целом тифлисское общество тех лет состояло из людей ярких, незаурядных личностей, многие из которых по праву вошли в историю Грузии и России. Как и в Новороссии, на Кавказе среди лиц, составлявших окружение Воронцова, было немало замечательных ученых-исследователей, принесших своими трудами неоценимую пользу краю. Среди них известный нумизмат Иван Александрович Бартоломей, не жалевший ни средств, ни времени на поиск и покупку монет, автор «Чеченского Букваря» (Тифлис, 1866). Иван Александрович собирал также коллекции насекомых. Князь А.А. Дондуков-Корсаков вспоминал, как в 1851 г., находясь в походе с отрядом за Кубанью, на реке Белой, И.А. Бартоломей собрал коллекцию насекомых, которых хранил в жестяных кружках и в крепком спирте в своей палатке. Коллекция существовала недолго, во время одного из визитов к исследователю гости почувствовали неприятный запах, исходящий из кружек. Оказалось, что казаки выпили весь спирт, хранивший ценные экспонаты. Хозяин долго не мог прийти в себя от бешенства, гости же не удержались от смеха. Среди ученых, долгое время живших на Кавказе, был также академик Г.В. Абих, профессор Дерптского университета, совершивший в 1845 г. восхождение на Арарат и ставший в 1853 г. академиком за описание Кавказского края. Генерал-лейтенанту Ходзько Кавказ обязан организацией здесь топографических работ. Воспитанник Царскосельского лицея Н.В. Ханыков приехал в Тифлис в конце 40-х годов, изучив самостоятельно восточные языки, был хорошо знаком с восточной литературой, географией. Его записка об изучении языков и наречий Кавказа была удостоена в Париже большой золотой медали Географического общества. В то время в Тифлисе почитались дома князей Орбелиани и Чавчавадзе, Г.В. Абиха, Н.В. Ханыкова, И.И. Ходзько. Тех, кто с честью служил этой многострадальной земле, измеряя свою любовь к ней количеством добрых дел, свершенных для ее блага. Тифлис 40-х и 50-х годов жил удивительно насыщенной, по-восточному колоритной жизнью. В числе оригинальных личностей того времени — барон А.К. Майндорф, пожилой человек, необыкновенно светский и любезный, постоянно создающий невозможные проекты в области торговли, финансов и промышленности. Желая воплотить свои проекты, он изъездил весь Кавказ. Решив очистить русло Куры для устройства пароходного сообщения, он, несмотря на годы и лихорадку, активно принялся за дело. Самобытной личностью Тифлиса был и англичанин Сеймур. Он ехал в Персию и должен был задержаться в Тифлисе на пять дней, а вместо этого оставался на Кавказе три года, не давая о себе никаких известий. Родственники разыскали его через князя Воронцова. Сеймур отправился в Ереван и, найдя там попутчиков, взобрался на Арарат, на вершине которого и написал свое первое письмо в Англию. Сохранение народных традиций — это сбережение души народа, его неповторимости, как бы ни удивительны они казались для тех, кто получил европейское образование и был непривычен к подобным действиям. Но, видимо, талант администратора и состоит в умении анализировать события, находить их истоки и причины возникновения, помня, что управлять — значит предвидеть. С древних времен в Тбилиси устраивались так называемые тамаши, похожие на русские кулачные бои. В них участвовали люди не только всех сословий, но и разных возрастов. В первое время после присоединения Грузии к России в Тбилиси тамаши были запрещены, но с прибытием князя Цицианова, благодаря просьбам жителей, тамаши разрешили. «Князь Цицнанов сам выезжал на оные, не столько потому, что в нем текла грузинская кровь, как потому, что он считал сей обычай свойственным здешним характерам и приличным народу воинственному, окруженному повсюду неприятелями и в котором личная смелость и молодечество всегда <нужны были> для поддержания необходимого воинствующего духа»3. Воронцов предлагал во избежание беспорядка вынести тамаши за пределы города, где больше простора и нет общественных зданий, могущих пострадать. Это предложение поддержал Император Николай Павлович: «За городом дозволять, но с тем, чтобы, кроме рук, других орудий в драке не употреблять и всегда под надзором полиции, и кончить по данному от оной знаку, когда слишком разгорячатся»4. Среди народных праздников особенной любовью пользовался в Тифлисе массовый шумный карнавал — ксеноба. Он проводился в следующий за Масленицей понедельник и был последним всплеском веселья перед Постом. В XIX столетии считалось, что празднование ксеноба связано с победой грузинских войск над персами, которые сначала захватили город, но впоследствии были разбиты, причем персидский шах попал в плен. Он был переодет в шутовский наряд, и его с вымазанным сажей лицом возили по городу. Тифлисцы стали устраивать праздничное действо, представляя в игре эпизоды борьбы с персами. Воронцов любил ксеноба, встречая во дворце процессию с мнимым шахом, бросал в толпу горсти серебра. Тифлис того времени был наполнен молодыми военными, по разным причинам желавшими служить на Кавказе под началом Воронцова. Многие из них никогда не вернутся в Россию, другие же, спустя время, займут высокие посты в государстве.«Для окружающей его молодежи и приближенных, — вспоминал князь Дондуков-Корсаков, — Нельзя было вообразить себе более снисходительного, внимательного и доброго начальника. Все шалости молодежи, разумеется, не имеющие характера ни буйства, ни явного неприличия, встречали скорее в нем симпатичный интерес к проявлению молодости, чем взыскательное отношение начальника к своим подчиненным». Однажды, возвращаясь из театра в прекрасную весеннюю тифлисскую ночь, Дондуков-Корсаков зашел поужинать в клуб, расположенный на площади перед домом главнокомандующего. К зданию клуба примыкал сад, в котором он нашел князя Васильчикова и двух-трех приятелей, ужинающих на открытом воздухе. Молодые люди решили, что для услаждения слуха следует послать за оркестром. Менее чем через час 60 музыкантов развлекали в саду нескольких русских офицеров. Затем процессия отправилась гулять по городу, устраивая серенады своим товарищам. Проснувшись в первом часу ночи от неимоверного шума, М.С. Воронцов приказал камердинеру разобраться, в чем дело. Узнав о происходящем, он не только запретил тревожить собравшихся, но даже говорить, что они его разбудили, сказав при этом: «Слава Богу, что моя молодежь довольна и веселится». Может быть, в эти минуты князь вспоминал свои шалости, когда в 1802 г. он служил в Тифлисе под началом князя Цицианова. Своеобразным центром для молодых офицеров были квартиры князей Васильчикова, Дондукова-Корсакова и Кочубея. «Наша квартира, — писал Дондуков-Корсаков, — считалась каким-то сборным пунктом всего нашего кружка: у нас совершались проводы отъезжающих в поход товарищей, обеды и встречи благополучно возвратившихся из экспедиции, у нас составлялись все предложения различных пикников, увеселений, всех шуток и школьничеств, на которые всегда так отечески смотрел князь Воронцов». Михаил Семенович всегда принимал участие в делах его приближенных, даже частных, никогда не отказывая в помощи, причем делал это с присущим ему тактом. Всеобщим уважением пользовался среди офицеров комендант Тимергоевского укрепления на правом фланге на Лабе полковник Гениг. Этот человек имел большое влияние на соседние с укреплением черкесские племена. «Его справедливость, честность, в случае нужды боевая энергия, а главное — знание характера населения и широкое гостеприимство были известны почти всем черкесам правого фланга. Он никогда не изменял раз данному слову, и часто немирные князья приезжали к нему судиться или советоваться по своим частным внутренним делам». Полковник Гениг, согласно восточным обычаям, одарял гостей богатыми подарками, поэтому ему приходилось жить не по средствам и тратить значительные суммы на приемы. Воронцов хорошо знал и ценил Генига. Услышав о его затруднениях, он приказал отправить полковнику 4000 рублей из своих собственных средств. Честь старого офицера была спасена. Здесь нельзя не вспомнить еще об одном известном поступке Воронцова. Оставляя Францию в 1818 г., он, будучи командующим Русским оккупационным корпусом, заплатил все долги не только офицеров, но и нижних чинов корпуса — примерно один миллион франков собственных денег, дабы никаких претензий у французов не было. Удаленность Кавказа от центральных губерний Российской Империи благоприятствовала возникновению там особой атмосферы, со своими нравами, интересами, особенностями. Сообщения со столицею были редки, почта приходила два раза в месяц, иногда же, из-за завалов, сообщение с Россией прекращалось совсем. «Замечательно, — отмечал Дондуков-Корсаков, — что общество тифлисское, несмотря на отдаленность свою от Петербурга, может быть, и вследствие этой отдаленности, не имело того характера местной провинциальной жизни, которая существовала и существует доселе во всех прочих провинциальных городах обширного нашего царства. Не было тех мелких интриг, тех сплетен, которые делают невыносимой нашу жизнь в провинции»5. Кавказский край, и Тифлис в частности, жили своей жизнью, на которую влияло также тревожное военное положение. Местные административные проблемы приобретали в этих условиях государственное значение. К тому же нельзя было забывать о приграничном расположении Закавказья, его соседстве с Турцией и Персией. Все это заставляло людей, жиоущих между войной и миром, дорожить каждым днем, не оставляя времени на мелочные страсти. Тифлис, как столица края, стал для многих вторым домом, где, находясь между походами, хотелось вспомнить и приблизиться к тому дорогому, что осталось в России. 25 сентября 1850 г. в Тифлис прибыл Государь Наследник. На другой день приезда в честь Его Высочества был дан торжественный обед у князя М.С. Воронцова, а вечером — большой бал у Елизаветы Ксаверьевны. 27-го числа Наследник присутствовал на бале грузинского дворянства, состоявшемся за городом, в Ортачалах, в саду Н. Тершмавонова. «В 9 часов вечера губернский предводитель дворянства ген.-м. Кн. Орбелиан, с почетнейшими князьями, встретил Государя Наследника в воротах сада, а хозяин оного, восьмидесятилетний старик Тершмавонов, по древнему грузинскому (восточному) обычаю, подостлал под ноги Августейшему посетителю богатый парчовый ковер (пиандаз). По обе стороны виноградной аллеи, среди яркой зелени листьев коей и золотистых гроздей спелого винограда светились тысячи разноцветных фонарей, стояли в два ряда князья и дворяне всех уездов Тифлисской губернии. По этой аллее Государь Цесаревич был введен в залу, сооруженную в мавританском вкусе, собственно для этого торжественного случая. В зале уже находились: Персидский принц Бехмен-Мирза с сыновьями, дамы в великолепных уборах и почетнейшие лица города». Бал открылся европейскими танцами, которые вскоре сменились национальными. Блистательный фейерверк прервал танцы. Огненные декорации на противоположном берегу реки Куры сменяли одна другую. Наконец, вспыхнул щит с вензелевым изображением Августейшего гостя. Одновременно небо осветили ряды огромных огненных снопов, рассыпавшихся вверху букетами блестящих и разноцветных звезд. Потом снова начались танцы, продолжавшиеся до полуночи. В одной из аллей парка был накрыт на возвышении так называемый европейский стол; перед ним, на коврах, разостланных на земле, разместились более 200 грузинских князей и дворян. Началось пиршество по древним обычаям Грузии. Наследник Престола сначала удостоил вниманием этот пир. Под крики «Ура!» Его Высочество прошел между двух рядов пирующих и затем занял место за столом в беседке с почетными гостями праздника. В конце ужина губернский предводитель дворянства провозгласил тосты за здравие Императора, потом за здравие Наследника. Местные и полковые хоры музыкантов исполнили «Боже, Царя храни», а крики «Ура!» собравшегося вокруг народа потрясали окрестности. Наследник Престола в свою очередь провозгласил тост в честь грузинского дворянства. На следующий день, в 8 часов вечера Наследник посетил торжественный прием, организованный для него обществом тифлисских граждан — армян в Караван-сарае Арцруни (рядом с Сионским собором). Между группами пирующего народа были разложены разнообразные товары; в других лавках разыгрывались импровизированные комедии. Из ротонды, куда пригласили Высокого гостя, открывался прекрасный вид на двор Караван-сарая, иллюминированный китайскими фонариками, светившими сквозь цветы и зелень деревьев, обвитых виноградными лозами. В фонтане плескалась рыба, а на площади играла музыка. Над карнизом крыши блестел транспарант с вензелевым именем Наследника. Посетив так называемые темные ряды, где лавки и стены были увешаны богатыми материями, и провозгласив тост в честь граждан, Цесаревич возвратился в Карван-сарай, во внутренние залы, убранные с восточной роскошью. Выйдя на балкон, Наследник увидел поистине сказочное зрелище: весь скат Авлабарской горы был очерчен огненными линиями, воды Куры, освещенные заревом, переливались золотым цветом, и на крутящихся водоворотах показывались иллюминированные плоты с танцующими на них лезгинку зрителями праздника. Поблагодарив граждан Тифлиса за прием, Наследник в 12 часов ночи отправился в дом главнокомандующего. По удалении Высокого гостя Караван-сарай был открыт для всех желающих, и сотни любопытных угощались в нем до трех часов ночи, а на Армянском базаре народ пировал до рассвета. 29 сентября Цесаревич выехал из Тифлиса. После отбытия Августейшего гостя в воскресенье, 1 октября, в Ванкском армянском соборе была отслужена Божественная литургия. После молебна духовенство отправилось на монастырский двор, где архиепископ Минае освятил столы с пищей для 1500 человек бедных людей, собравшихся у врат храма. Священник Патканов объявил им причину торжества, и тогда радостные крики, благословляющие имя Наследника, и громкое «Ура!» долго повторялись народом. Почетные граждане разносили нуждающимся вино, хлеб, зелень, мясо. На молебне присутствовали тифлисский военный губернатор и другие высокие гости. Наследник Русского Престола посетил Эчмиадзинский монастырь. За 200 сажен перед северными вратами обители он был встречен многочисленным духовенством монастыря, в полном облачении, с крестом, хоругвями и образами, и при пении священных гимнов и колокольном звоне Его Высочество, идя рядом с Патриархом Нерсесом, вступил по золотой парче в монастырь и в собор. После краткого молебна Цесаревич прикладывался к иконе святого Копия и мощам угодников, затем, пишет Нерсес, «его Высочеству подали мы приветственную записку на армянском языке, изобразив в ней с искони одушевляющия всех армян заветныя чувства усерднейшей верноподданности к всемилостивейшему Престолу великой державы Российской». Из церкви Наследник отправился в палаты Патриарха, где для него были отведены специальные комнаты. В девятом часу вечера состоялся обед на 16 кувертов. По правую сторону от Цесаревича сидел Нерсес с двумя архиепископами, по левую — князь В.О. Бебутов и другие. После обеда Цесаревич и Патриарх кушали кофе в отдельном кабинете и почти до 11 часов вели беседу на русском языке. На другой день, 7 октября, после литургии Его Высочество осматривал древности Эчмиадзинского храма и прикладывался к святым мощам апостолов и других угодников. Посетив трапезный зал, помещение Эчмиадзинского Синода и древнюю монастырскую библиотеку, наследник пил чай у Патриарха, после чего, поблагодарив Его Святейшество за прием, Цесаревич простился с Нерсесом и отправился в Эривань. Князь Воронцов писал Патриарху Нерсесу от 29 декабря 1850 г.: «<...> Его Императорское Высочество с восхищением говорил об Эчмиадзине и о вашем там приеме; и мы должны все радоваться, что Великий Князь к нам приехал, и что Бог нам помог таким образом, что у Наследника Престола останется самое лучшее впечатление обо всем, что он видел на Кавказе, и что все жители Кавказа узнали будущего их Государя и узнали, сколько он достоин высокого своего назначения<...>». Как отмечал М.П. Щербинин, устраиваемые наместником в Тифлисе еженедельные вечера, балы и концерты имели цель слияния туземцев с русскими и уничтожение враждебной розни, искони существовавшей между обитателями Кавказа. Расходы на проведение светских церемониалов осуществлялись не за счет казенных, но личных средств князя. В 1845 г. доходы Закавказского края достигали 1 649 151 рубля; в 1849 г. — примерно 2 000 000 рублей, а в 1852 г. — 6 226 492 рубля. С первого года своего пребывания в Тифлисе Воронцов занимался его благоустройством. Город рос: если в 1835 г. он насчитывал 25 000 жителей, то в 1847 г. 43 862 человека. Воронцов — инициатор многих градостроительных преобразований. Тифлис хорошел. Большая часть его покрывается мостовыми. Вдоль северной городской стены (по линии будущей Мухранской улицы) строится крепостной бульвар. Недалеко от последнего в 1867 г. будет воздвигнут памятник светлейшему князю М.С. Воронцову. Император Александр Николаевич утвердил ходатайство князя А.И. Барятинского о сборе добровольных пожертвований на памятник М.С. Воронцову. Сам Государь внес три тысячи рублей. В 1867 г. памятник был открыт как признание заслуг человека, покинувшего в 1854 г. Кавказ, и о котором, как об истинно государственном деятеле, можно судить по той пользе, которую он принес подвластным ему землям. Примечания 1. Соллогуб В.А. Повести. Воспоминания. Л., 1988. С. 513—514. 2. Воспоминания князя Дондукова-Корсакова // Старина и новизна. Кн. 6. 1903. С. 168—169. 3. Акты, собранные Кавказскою археографическою комиссией. Т. Х. С. 826. 4. Там же. С. 827. 5. Ерицов А.Д. Патриарх всех армян Нерсес V и князь Михаил Семенович и княгиня Елисавета Ксавериевна Воронцовы, в частной переписке. Тифлис, 1898. С. 13—14. О.Ю. Захарова. «Светлейший князь М.С. Воронцов» Источник: http://www.krimoved-library.ru...cov28.html ---
Снегиревы | | |
MarinaMМодератор раздела  Москва Сообщений: 6191 На сайте с 2011 г. Рейтинг: 1093 | Наверх ##
5 августа 2019 23:30 6 августа 2019 23:44 Тифлисский артиллерийский гарнизон располагался при Грузинском Артиллерийском Округе. То есть располагался в зданиях Арсенала, на Арсенальной горе.
Вот фото Прокудина-Горского, где отмечены здания Арсенала. При Саакашвили их снесли. Подполковник Евграф Иванович Зоммер в 1850-е годы был начальником Тифлисского Артиллерийского Гарнизона. Обычно командиры в те годы имели квартиры в расположении части. Данные взяты из календарей 1855 и 1858 годов.
Фотография, естественно, сделана в более поздний период, в начале 20-го века.
В середине 19 века некоторых зданий еще не было, но в основном Арсенал имел такой вид и выглядел так же. В Арсенале располагалась канцелярия и руководство Грузинского Артиллерийского Округа, и с ними был расположен Тифлисский Артиллерийский гарнизон, так как он частично и обслуживал Арсенал.
* (на стр.1 этой темы в самом начале темы на двух старых картах Тифлиса можно увидеть Арсенал,- он обозначен на обеих картах)
 ---
Таланины, Артамоновы (Вологодск. крест.). Мантьевы. Добровольский Андр. Андр. 1891 гр. Зоммеры (Архангельские, Псковск.). Алабушевы (Латвия,СПб). Малюга. Вилли. Вамелкины, Можайские (Новгородск, Псковск., Вологодск.). Дневник: http://forum.vgd.ru/1516/ | | |
| snegirev
Сообщений: 1306
На сайте с 2014 г.
Рейтинг: 38491
| Наверх ##
6 августа 2019 11:01 9 февраля 2020 15:23 Тифлис. 1856-1866. Первые фотографисты. Первое стационарное фотоателье в Тифлисе открыл в декабре 1856 года французский подданый Симон Мориц. Мориц Симон | 1856-1861 1856-1857(Apr)– Тифлис, Эриванская пл., д. Кукуджанова, против Семинарии 1857-1861 – Тифлис, Головинский проспект, д. Попейко 1858-1859: Фотографических заведений в Тифлисе два, три или четыре. Продолжает работать Мориц, открылся Окуловский. Есть также казеное Фотографическое отделение Департамента Генерального Штаба. Кроме того, в городе с гастролями постоянно пребывают один-два неизвестных нам пока дагерротиписта. Окуловский Александр | 1858-1860 1858, 1 марта - 15 мая – Тифлис, Головинский проспект, дом князя Орбелиани 1859-1860 – Тифлис, Головинский проспект, д. Богданова, с 29 Jan 1859 г. § ОКУЛОВСКИЙ Александр (1822-1882) | 1850-1851 – Иркутск / 1853-1857 – Казань / 1856 – Самара / 1858-1860 – Тифлис / 1861-? – Пятигорск Потомственный почетный гражданин. Первое фотографическое заведение в Казани открыл в ноябре 1853 г. Объявление в «Казанских губернских ведомостях»: «Честь имею известить почтеннейшую публику, что с настоящего числа буду снимать фотографические портреты на металле, бумаге и стекле. Портреты будут сниматься ежедневно при ясной и пасмурной по годе от 9-ти часов утра до 3-х пополудни в устроенной для сего теплой галерее, в квартире моей на Воскресенской улице в доме Акчурина». В мае 1857 г. заведение О. переходит во владение зубного врача Эдварда Вестли. «Самарские губернские ведомости», №33 от 18 августа 1856 г. : «О фотографических портретах. Честь имею известить почтеннейшую публику, что настоящего числа и по 1 октября сего года, буду принимать заказы на фотографические портреты. Можно снимать ежедневно при ясной и пасмурной погоде, от 9 часов утра до 3-х пополудни, в квартире моей города Самары в 1 части в доме Шефера, где и можно видеть выставку портретов моей работы. Фотографист А. Окуловский». [spr_popov] В Тифлисе Окуловский открылся сначала временно, на три месяца в доме князя Орбелиани. С января 1859-го у него уже постоянное фотоателье на Головинском проспекте в доме Богданова. Плодотворное сотрудничество Окуловского и Вестли, начавшееся в Казани, продолжилось и в Тифлисе – ""Кавказ" №89, 12 Nov 1859: "Прибывший из Лондона зубной врач Э. ВЕСТЛИ предлагает свои услуги почтеннейшей тифлисской публике, во всем, что касается зубных операций по новейшим английскимъ и американскимъ методамъ, какъ-то: вставлеление искусственных зубовъ, не уступающихъ прочностию и красотою эмали лучшимъ натуральным, пломбировка и вырывание испорченныхъ зубовъ, очищение ихъ отъ виннаго камня и т. п. Жительство имеет на Головинском проспекте в доме Богданова, при фотографическомъ заведении Окуловскаго." 1860: 1) Мориц Cимон – Тифлис, Головинский проспект, д. Попейко 2) Окуловский Александр – Тифлис, Головинский проспект, д. Богданова, с 29 Jan 1859 г. 3) Гольдштейн Людвиг (Луи) – Головинский проспект, д. ген. Арцруни, возле Главнаго Штаба, с 6-03-1860 по 12-06-1860. – Головинский проспект, д. ген. Белова, с 13-Nov-1860 4 Хламов Ф. Т. – Саперная, дом Гринева, с 2-Oct-1860 (опять) 5) Артюр Г. с Компаньоном. Д. (Дубилер) – Головинский проспект, д. Сараджева, где кондитеры Гилье и Ренье, с 1-Dec-1860. а так же: 6) Фотографическое отделение Департамента Генерального Штаба Далее... Сведения о фотографах Тифлиса в 1860-х и 1870-х фрагментарны. В ежегоднике "Кавказский календарь" с 1863-го и по 1880-й фотографы вообще не упоминаются. В газете "Кавказ" реклама фотографий встречается часто, но бессистемно. В целом: В 1861-м количество фотографических заведений в Тифлисе достигло десяти и, видимо, это был исторический максимум. Следующие 30 лет в каждый конкретный момент времени в городе формально числилось 8-9 фотографий, из которых реально работали 6-7 (один-два владельца находились в отъезде, и пара-тройка должны были вот-вот открыться, или закрыться, или переехать в другое помещение.) Персонально: 1) – Основатель тифлисской фотографии Симон Мориц и его фотоателье на Головинском проспекте в доме Попейко последний раз упоминаются в ноябре 1863-го. 2) – Окуловский в 1861-м перебрался в Пятигорск, а его фотоателье на Головинском проспекте в д. Богданова по привычной уже казанской схеме досталось квартирующему в нем фотографу-дантисту Э. Вестли. 3) Сам Э. Вестли из дома Богданова в январе 1863-го переедет в дом Шиоева все на том же , Головинском проспекте, а через год вернется обратно и просидит там до 22 января 1878, после чего снова передеет в дом Шиоева (к тому времени – Шиоевой) и уже вплоть до финального для него 1883-го.  2) В 1861-м откроется Бялый по адресу – Арсенальная, д. Богутинского 3) Гольдштейн то ли Людвиг, то ли Луи, открывшийся в 1860 в доме ген. Белова, в октябре 1862-го приютит у себя восходящую фотографическую звезду Барканова В. В. после чего о Барканове мы ничего не услышим до 1881-го, а Гольдштейне – уже никогда. 4) Хламова Ф. Т. в мае 1861-го на Саперной, д. Гринева сменит "Товбич и Кo", а сам Хламовпереедет на Головинский проспект в дом Шиоева, где его в январе 1863-го сменит Э. Вестли... см. п. 3. 5) Загадочный Д., компаньон Артюра Г. в фотографии на Головинский проспекте, д. Сараджева, отрывшиеся в декабре 1860-го, окажется Дубелиром Л. и в 1861-м уже будет единоличным владельцем фотоателье в д. Сараджева. В 1865-м Дубелир переедет в д. Харасимова, рядом с магазином мад. Гютих, близ градской полиции и Сололакских улиц. В 1871-м – в д. Харазова, где помещается отделение государственнаго банка В 1880-м его адрес – Головинский пр-т, д. Рейтерна, рядом с домом Мамуки Орбелиани 6) Фотографическое отделение Департамента Генерального Штаба, оно же Фотографическое заведение при Главном Штабе, оно же Казеная фотография (Тифлис, Семинарский пер. вход с Лорис-Меликовской ул.) вообще-то предназначенное для, цитируем, "топографии (особенно), этнографии, археологии и вообще ко всему, где искуство фотографии может быть употреблено с пользой для края и науки" с 8-го января 1863 года открыло свои действия для гражданской публики и решило "предлагаетъ свои услуги частным лицам, на нижеследующихъ условиях: Дюжина карточек визитных, во весь рост 7 руб...." и т.д. 1860-е, 1870-е... Кавказский календарь на 1881 год, Фотографии г. Тифлис: 1) – Артюр. Тифлис, Михайловский мост, д. Мирзоева 2) – Вестли. Тифлис, Головинский проспект, д. Шиоевой 3) – Дубелир. Тифлис, Головинский проспект, д. Рейтерна, рядом с домом Мамуки Орбелиани 4) – Левитес. М. Тифлис, Головинский проспект, д. Рейтерна 5) – Орлай. Тифлис, Головинский проспект, д. Белого 6) – Филиппович. Тифлис, Головинский проспект, д. Зубалова 7) – Ермаков. Д. И. Тифлис, Дворцовая, д. Сараджева и Цовьяна, рядом с Дворцом 8) – Барканов. В. В. Тифлис, Дворцовая, д. Харазова 9) – Цейтлин. Тифлис, Дворцовая proof: "Кавказ" 1856-1859 / Кавказ 1860 / Автор: Fomoa Telier на 07:36:00  https://ic.pics.livejournal.co...81_640.jpg https://ic.pics.livejournal.co...81_640.jpg ---
Снегиревы | | |
| snegirev
Сообщений: 1306
На сайте с 2014 г.
Рейтинг: 38491
| Наверх ##
6 августа 2019 11:24 АПТЕКИ ТИФЛИСА. История аптечного дела в Грузии уходит в глубину веков, однако о Тифлисских аптеках упоминаний немного. Единственная аптека , обслуживающая горожан была открыта в 1740 году католическими миссионерами. Эта аптека находилась у Царских ворот, на углу улиц Чахрухадзе и Шавтели (Анчисхатская ) , но была разрушена в 1795 году. Фактически, отсчет о развитии аптечного дела можно начать с 1806 года, когда в Тифлисе появилась первая казенная аптека. Содержалась она за счет государственной казны .Одна из известных старейших аптек города открылась в 1826 году на ул.Лермонтова. Это была аптека Флора Федоровича Шенберга, перешедшая затем к Ф.Оттену. А в 1893 году газета ,,Тифлисский листок писала: ,,...магистр фармации Ф.Оттен имеет честь донести до всеобщего сведения, что он переходит в Сололакскую аптеку, приобретенную им в собственность,,. Помещение, в котором, кстати, до этого тоже была аптека, он купил у Шахпароянца . Эта аптека функционирует и сейчас , в ней частично сохранились даже старые аптекарские шкафчики и часть интерьера. С именем Фердинанда Оттена, кроме его знаменитой аптеки, связан поиск пригодной для города воды во время строительства водопроводной сети. Именно он исследовал воду в Сагурамо и дал ей высокую оценку , как источник питьевой воды для Тифлиса. Выпускник Дерптского и Петербургского университетов Фердинанд Карл Оттен был удостоен звания Почетного гражданина Тифлиса. Если имя Оттена знакомо лишь старым горожанам, то имя Земмеля продолжает звучать в Тбилиси, но уже в связи с районом, а вернее, местом, , где когда-то была его гомеопатическая аптека. Аптека была на на углу Ольгинской и Верийского спуска. Аптека, к сожалению, не сохранилась, В период с 1863 по 1864 год Земмель и Оттен открыли три аптеки . В этот период , в городе с 60-тысячным населением, других аптек не было. Однако, к концу 19 века аптек стало значительно больше и 4 января 1898 г. даже открылось Тифлисское гомеопатическое общество в помещении центральной гомеопатической аптеки в доме Добржанского на Головинском проспекте. Председателем был избран Действительный Статский Советник Н.Е.Хлодовский. Общество занималось пропагандой гомеопатических средств и вело научную и исследовательскую работу в этом направлении. Известную всему городу аптеку на первом этаже городской мэрии в 1900 году возглавил сын тифлисского торговца Фридрих Гейн. Он одним из первых привез в Тифлис новейший микроскоп и проводил лабораторные исследования в своей аптеке. К 1912 году в Тифлисе уже насчитывалось 23 аптеки и 30 аптекарских магазинов . Среди их владельцев - Глезер, Шнейдер, Оттен, Гейне, Шмидт, Шинберг, Шиханов, Земмель... Надо сказать, что немцы долгое время оставались монополистами в аптечном деле. Список аптекарских магазинов и складов займет слишком много места, так что я ограничусь только аптеками. АПТЕКИ ТИФЛИСА (по справочникам врачей 1911 г. и 1913 г.) Аптека Тифлисского товарищества фармацевтов- Головинский пр № 33 Аристаков Александр Сергеевич – Воронцовская № 10 Айвазов Александр Григорьевич - ул.Судебная № 22 Безе Берта Павловна – Ртищевская № 17 Вилларет Виктор Людвигович – Лорис.Меликовская № 7 Гейн Фридрих Карлович и Фердинанд Адольфович – Эриванская пл. Городской дом. Гржендзица Станистав Станиславович – ул.Кирочная № 16 Глезер Фриц Карлович – угол Реутовской и Черкезовской ул. Габриелянц Сергей Иванович (гомеопатическая) – Крузенштерна № 1 Джорогов Евгений Осипович – Винный под.№ 28. Ишханов И.А. – Головинский пр. № 20 Зелькин Эльяша Зеликович – Ольгинская № 53 Земмель Евгений Яковлевич – ул.Ольгинская у Верийского спуска. Замлынского – (наследников ) – Елизаветинская № 10 Зурабов В.Г. – Головинский пр. № 14 Ионнисиани Никита Егорович – Пушкинская № 19 Либих Александр Давидович - Мадатовская, дом Мартирузова Макер Эдуард Эдуардович – у памятника кн. Воронцова Оттен Фердинанд Карлович – Сололакская № 8 Прейсберг Владимир Карлович – Армянский базар № 80 Симхович Яков -Айзик Давидович – Николаевская № 7 Ходжеванов С.И. – Лермонтовская № 17 Хамганезовы братья – Головинский пр. № 38 Шенгард Энгельбрехт Генрихович – Кахетинская № 10 Шихинов Алоизий Богданович – Михайловский пр. № 146  Тифлис. Винный подъем. Справа аптекарский магазин Е.О.Джорогова. https://aidatiflis7.livejournal.com/16549.html ---
Снегиревы | | |
| snegirev
Сообщений: 1306
На сайте с 2014 г.
Рейтинг: 38491
| Наверх ##
6 августа 2019 11:40 Тифлис Ольгинская улица. Великая Княгиня Ольга Фёдоровна Романова (1839-1891)  Цецилия Августа, принцесса и маркграфиня Баденская родилась 20 сентября 1839 года в Карлсруэ, Баден в семье великого герцога Баденского и Софии Вильгельмины Шведской. Герцог Баденский был строгим отцом и девочка воспитывалась почти в спартанских условиях. Наряду с хорошим образованием, она получила навыки, которые потом очень пригодились ей в жизни. Она обладала твердым характером и хотя редко демонстрировала свои чувства, была человеком отзывчивым и готовым придти на помощь страждущим. После принятия православия, принцесса Баденская получила имя Ольги Федоровны и титул Великой Княгини. В августе 1857 года, 18-летняя Ольга вышла замуж за младшего сына Российского императора Николая 1, Михаила Николаевича. Ей было всего 23 года, когда она приехала в Тифлис вместе с мужем и тремя маленькими детьми. Великиий князь Михаил Николаевич был назначен Наместником русского императора на Кавказе в 1862 году и прослужил на этом посту до 1881 года.( Collapse ) Ольга Федоровна посвятила себя заботе о семье и воспитанию детей, но её деятельная натура не могла остаться в стороне от множества проблем, с которыми она столкнулась на Кавказе. Как и многие первые дамы, княгиня занялась благотворительной деятельностью, используя, в основном, свои личные средства. Уже через год, под покровительством Ольги Федоровны, был образован Совет общества Святой Нины, в котором она стала председателем. Благотворительное общество заботилось о воспитании и образовании девочек по всему Кавказу. Особое внимание уделялось детям из бедных семей и сиротам, которые получили возможность обучаться в начальной школе, а многие и продолжить образование. Кроме того, Ольга Федоровна стала Августейшей покровительницей Общества распространения христианства. В 1865 году, во многом благодаря её усилиям, в Тифлисе открылась первая на Кавказе женская гимназия, получившая впоследствии имя Великой княгини Ольги Федоровны – ОЛЬГИНСКАЯ. Следом, открылась прогимназия. За несколько лет число учениц в этих учебных заведениях выросло до тысячи. Гимназия содержалась на деньги Ольги Федоровны. За обучение девушек из состоятельных семей взималась плата в 150 руб. в год, тогда как нуждающиеся ученицы, при хорошей успеваемости и поведении, освобождались от платы и даже получали стипендию. Все годы существования Ольгинской гимназии, день её основания торжественно отмечался 16 апреля.  Тифлис. 1-я Великой Княгини Ольги Федоровны женская гимназия. ул.Лорис-Меликовская № 12. В начале 70-х годов 19 столетия, открылся Повивальный институт, который также состоял под Августейшим покровительством Ольги Федоровны и потому не случайно назывался Закавказским Ольгинским Повивальным институтом. В 1877 году началась русско-турецкая война. Великий князь Михаил Николаевич был назначен Командующим войсками, а Великая княгиня Ольга Федоровна взяла на себя заботу об отбывающих на войну, и раненных солдатах. Она стала покровительницей Общества Красного Креста на Кавказе. Интересно, что всех военнослужащих, проходящих через Тифлис на эту войну, Ольга Федоровна принимала у себя, в Дворцовом саду (на Головинском проспекте), где были накрыты столы с угощением и она сама подавала солдатам чай, сахар и булки. Приемы продолжались по 2 часа, одновременно, на них присутствовало 200-300 солдат и офицеров. Через Дворцовый сад ушли на войну больше 10 тысяч человек. Забота о раненых, обеспечение госпиталей самым необходимым, стало для Ольги Федоровны главным делом во время войны. Она постоянно следила за тем, чтобы Общество Красного Креста имело всё необходимое для ухода за раненными и даже приобрела на свои деньги полевой аптечный фургон с медикаментами и хирургическими инструментами на 200 человек. В 1878 году, благодаря усилиям княгини Ольги, в Тифлисе открылось ещё одно учебное заведение - 2-я ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ОЛЬГИ ФЕДОРОВНЫ ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ (ул.Великокняжеская) Почти 20 лет прожила на Кавказе Ольга Федоровна, четверо из её семи детей , родились в Тифлисе. В 1881 году семья вернулась в Петербург. Ольга Федоровна оставила о себе добрую память на Кавказе и до конца дней тепло вспоминала годы, проведенные в Тифлисе. Она продолжала заниматься благотворительностью не обходя вниманием ни одно прошение, которое попадало в её руки. В 1891 году, на 51-м году жизни, Великая княгиня Ольга Федоровна скоропостижно скончалась от сердечного приступа. Похоронена она в Петербурге, в Петропавловском соборе. В её честь, одна из улиц Тифлиса была названа ОЛЬГИНСКОЙ. https://aidatiflis7.livejourna...0%B3%D0%B0 ---
Снегиревы | | |
| snegirev
Сообщений: 1306
На сайте с 2014 г.
Рейтинг: 38491
| Наверх ##
6 августа 2019 12:20 Тифлис Головинский проспект. Евгений Александрович Головин (1782-1858) - военный и государственный деятель, с 1845 по 1847 год - генерл-губернатор Лифляндский, Эстляндский и Курляндский.  Фото : https://i.pinimg.com/originals...e6466b.jpgЕвгений Александрович Головин получил образование в Московском университете, но избрал военную карьеру. Служил в гвардии, участвовал в войнах с Францией (в том числе в Аустерлицком, Бородинском и Лейпцигском сражениях, во взятии Парижа), в ряде войн с Турцией, в подавлении Польского восстания. За проявленную храбрость Е. А. Головин был награжден орденами и шпагой с алмазами и надписью «За храбрость», за умелое командование подчиненными в ходе боев его не раз повышали в звании. В 1813-м году после битвы под Лейпцигом получил чин генерал-майора, в 1825-м — генерал-адъютанта императора. Во время русско-турецкой войны 1828-1829 годов Евгений Александрович был назначен комендатном Варны. В городе вспыхнула эпидемия чумы, солдаты отказались выносить трупы из госпиталя. Генерал Головин одел парадную форму и лично вынес с тремя добровольцами тело одного из умерших. Два солдата, совершившие вместе с ним этот поступок, заразились чумой и умерли, Головину же посчастливилось остаться в живых. В 1837 году Е.А. Головин был назначен командиром Отдельного Кавказского корпуса и главноуправляющим гражданской частью и пограничных дел в Грузии, Армении и Кавказской области. Вскоре Головин стал генералом от инфантерии. После его смерти главная улица Тифлиса до революции называлась Головинский проспект (ныне — проспект Руставели в Тбилиси). В 1845-м году Головин был назначен Лифляндским, Эстляндским и Курляндским генерал-губернатором. В изданном в 1893 году очередном томе энциклопедического словаря Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфрона констатировалось: «Ко времени управления его (Головина — прим. автора) Прибалтийским краем относятся первые попытки распространения там православия и русского языка». В изданной в начале ХХ столетия книге «Русские портреты XVIII и XIX cтолетий» так сообщалось о деятельности Евгения Александровича Головина в Риге и причинах его отставки : «Здесь Головин поставил своей задачей объединение Прибалтийского края с империей и весьма содействовал стремлению латышей к переходу в православие. Одним из деятельных его сотрудников был известный Юрий Самарин. Хотя Головин нисколько не посягал на немецкие привилегии, его деятельность возбудила против него ненависть немцев, добившихся в 1848 году его отозвания из Риги». В Риге Евгений Александрович в 1847 году издал книгу «Извлечение из военного журнала генерал-лейтенанта Головина в течение кампании против польских мятежников 1831 года». Всего Е.А.Головин издал три книги о войнах, в которых принимал участие. В уже упоминавшемся издании «Русские портреты XVIII и XIX столетий» говорится: «Головин был одарен умом и получил хорошее образование, владел немецким и французским языками, а по-русски говорил и писал с замечательными точностью и силою выражений». В 1848-м году Евгений Александрович Головин был назначен членом Государственного совета. Автор: Александр Гурин https://www.russkije.lv/ru/lib/read/y-golovin.html ---
Снегиревы | | |
| snegirev
Сообщений: 1306
На сайте с 2014 г.
Рейтинг: 38491
| Наверх ##
6 августа 2019 22:16 11 января 2020 15:26 Соллогуб Владимир Александрович граф - известный писатель (1814 - 1882)  Фото; http://bard.ru.com/bio-foto/sollogub_v.jpgЗАВЛЕКАЮТ В СОЛОЛАКИ...(СОЛЛОГУБ В ТИФЛИСЕ) Мы уже так долго листаем сололакские страницы, где удивительным образом сочетаются стихи и проза, встречи и дружбы, имена прославленные и почти забытые… И кое-кто даже может упрекнуть нас в особом пристрастии к этому району. Но в таком случае тот же упрек можно адресовать и человеку, более полтораста лет назад писавшему здесь свои замечательные статьи и очерки о Грузии – графу Владимиру Соллогубу. Ведь объединил он их под говорящим названием «Салалакские досуги». Правда, в старой транскрипции: Сололаки тогда называли и Салалак, и Салулак. Так что, нет сомнений, где именно Владимир Александрович брался на досуге за перо и бумагу. И писал не конкретно о самом районе, а, как и мы, обо всем, что поразило и запомнилось – о встречах, о людях, о нравах, о литературе, о театре… По словам Николая Добролюбова, в «Салалакских досугах» Соллогуб «решился из светлой сферы поэзии спуститься в область смиренной прозы и сделался статистиком, этнографом, историком, биографом, туристом, даже критиком и историком литературы...» Ну, а что еще надо тем, кому интересно, чем жил Тифлис в том далеком времени! Открыв газету «Кавказ» за февраль 1851 года, читаем: «В наш город прибыл известный русский литератор граф Соллогуб, высочайшим повелением назначенный состоять по особым поручениям при его сиятельстве князе наместнике». Тогда тбилисскую публику это привело в восторг, сегодня большинству ее представителей имя графа Соллогуба мало что говорит. А ведь Белинский после гибели Лермонтова ставил его на второе место среди тогдашних писателей – вслед за самим Гоголем. Его знаменитой повестью «Тарантас. Путевые впечатления» зачитывалась вся Россия. И в историю литературы он вошел как предтеча русского классического реалистического романа. А еще он был близко знаком с Карамзиным, Гоголем, Лермонтовым, Одоевским, Тургеневым, Островским, Гончаровым, Достоевским, Григоровичем, Некрасовым, Панаевым. Ну, а Пушкин… вызвал его на дуэль, приревновав к своей Натали. Причем абсолютно безосновательно. К счастью, они объяснились, помирились, но Соллогуб вошел в историю еще и благодаря этому инциденту Как же знаменитый литератор, женатый на фрейлине императрицы Софье Виельгорской, завсегдатай всех великосветских салонов Петербурга, оказался в Тифлисе? Его собственное объяснение таково: «В начале 1850 года я довольно серьезно заболел, и доктора советовали мне ехать за границу пить богемские воды; но меня привлекало другое – меня уже давно тянуло на Кавказ. Мне хотелось взглянуть на этот, по рассказам и описаниям, чудный край… Личность наместника кавказского, князя Михаила Семеновича Воронцова, много способствовала этому желанию…» Вот и получилось, что граф приезжает в Тифлис не только для лечения – наместник приглашает его в качестве чиновника по особым поручениям. Но какие особые поручения мог исполнять известный литератор? С 1847 года на Эриванской площади города строится караван-сарай с театром на 700 мест. Это первое крупное театральное здание Закавказья. Создают его итальянский архитектор Джованни Скудиери и русский художник Григорий Гагарин, с которым у Соллогуба уже есть отличный опыт совместной работы. А деньги на строительство и оформление театра вызвался выделить известный меценат, почетный гражданин Тифлиса и Ставрополя Гавриил Тамамшев. И пусть современного читателя не коробит, что театр – в здании караван-сарая. Это аналог того, что теперь называется «торгово-развлекательным центром». В контракте прямо указано: «все торговые лавки, расположенные в здании, должны быть заняты красным товаром, галантерейными, модными, кондитерскими и вообще лавками, не безобразящими наружному взгляду». Директором этого театра и назначается Соллогуб. Вот такое особое поручение. И уже только в одном описании вверенного ему театра проявляется литературный талант графа-директора. Во-первых, он четко оценивает значение новостройки: «Промышленность и искусство зажили рука-об-руку, - и даже промышленностью поддерживается искусство, потому театр выстроен на счет лавок. Правильная торговля и эстетическое наслаждение сливаются в этом храме возникающей образованности, - две важные стихии для усовершенствования здешнего быта, указаны целому населению». А уж описание убранства театра – это восторженная поэма в прозе. Ее полное воспроизведение займет не одну страницу. Поэтому удовлетворимся лишь парой цитат: «Сооруженный в Тифлисе, на Эриванской площади театр не найдет себе нигде равного… Мертвым пером нельзя выразить всей щеголеватости, всей прелести, всей ювелирной отделки нового зала. Он похож на огромный браслет из разных эмалей, сделанный… по восточным рисункам. Равным образом он напоминает те предметы древней русской утвари с разноцветной финифтью, которыми мы восхищаемся в богатом хранилище Московской Оружейной Палаты…» И еще выслушаем пророческие слова о том, что действительно реализовалось с годами: «Нельзя не пожелать от души, чтобы здешняя драматургия, поняв свое призвание, заняла достойное место в общем стремлении к пользе и чтобы мысль, подарившая Закавказье театром, нашла отголосок в грузинских и русских писателях и пополнилась, осуществилась их произведениями». Конечно, можно понять такое восхищение театром, который получил под свое начало… Но у графа – много и других интереснейших строк о Тифлисе. Часть их и сегодня может повторить любой человек, изумленный первым приездом в Грузию. «Нигде так упорно и так усердно не закусывают, как здесь»… «Летняя жаркая погода в Тифлисе перестает быть погодой, а становится иногда настоящей язвой… Словом, если какой-нибудь город нуждается в дачах, то это, конечно Тифлис»... «Идет гомерическая попойка под председательством красноносого тулумбаша и безостановочно передаются из-рук-в-руки кулы, азарпеши и турьи рога с многоизвестным и еще более употребляемым кахетинским вином»… А этот отрывок о том, как итальянская опера завоевала Тифлис, просто необходимо прочесть, ведь чувством юмора не обделены ни автор, ни мы с вами: «Тифлис решительно становится музыкальным городом, еще немного и он даже будет итальянским городом. Куда не повернешься, все слышатся итальянские напевы. Рассказывают, что на майдане все муши то и дело, что поют – un pescator ignobile, а затем ложатся спать на улице, в ожидании золотых кафтанов и замаскированных Лукреций. Если кто на базаре покупает бурдюк кахетинского, так уж не иначе, как на голос – un segretto per esser felice… Верблюжие караваны становятся каждую ночь в кружок и, при виде восходящего месяца, проводники их затягивают хором: Casta diva. Зурна, бедная зурна, спряталась и замолкла. Два сазандаря, видя, что последний их час настал, застрелились, но, умирая, еще через силы нашептывали: Ah, pershe, non posso odiar ti… На улице все приветствия, все разговоры изменились. Теперь не спрашивают – здоровы ли вы? спрашивают – есть ли у вас место в Опере. Не говорят, что такой-то господин ожидает следующего чина, а – что такой-то певец немножко охрип, а у такой-то певицы болят ноги... Все бегут в театр. Все алчут оперы». А вот уже вполне серьезно: «Русская труппа в Тифлисе невелика, но можно и должно сказать, что она из лучших, если не лучшая из всех второстепенных русских групп. В ней господствует какой-то особый тон приличия и благородства… На тифлисской сцене вы не увидите гаерских угождений райку, ухарских ухваток, свирепых нарядов, ничего, что бы резко бросалось в глаза или могло бы оскорбить вкус самого взыскательного слушателя» Все это увидено и прочувствовано «изнутри» - Соллогуб ощущает себя своим человеком в закавказской столице. И что бы он не писал в ней, вполне естественно появляются слова «у нас», «наш край», «наш быт»… Посторонний человек не напишет: «Кто не знает нашего живописного города, нависшего над Курою, посреди котловины, окаймленной горами, тот не может себе представит волшебной картины этого освещения…» Или это: «Тифлис изменяется с каждым днем: между саклей, отважно торчащих гнездами, над обрывистым берегом Куры мгновенно вырастают красивые здания, сооружаются церкви, перекидываются через бурливую реку каменные мосты, выравниваются площади, возникают целые улицы, целые кварталы; каждый день приносит новый успех, новую мысль, новое развитие, новую радость». Ну, чем не описание нынешних дней? Правда, с одной оговоркой – те здания тифлисцы встречали с восторгом, а по поводу нынешних новостроек не стихают бурные споры... Город «над обрывистым берегом Куры» может гордиться не только тем, что знаменитый писатель по праву зачисляет себя в «летописцы тифлисской жизни и городской и загородной». Именно здесь у Соллогуба появляется возможность сочетать литературную, исследовательскую и общественную деятельность. Он печатает статьи и рецензии в газете «Кавказ», пишет пьесы, детальную биографию генерала Петра Котляревского, начинает «Историю войны в Азиатской Турции», издает сборник «Тридцать четыре альбомных стихотворения». А еще вместе с писателем Евгением Вердеревским готовит к печати альманах «Зурна», призванный поведать российскому читателю о богатстве и разнообразии культур Закавказья, в нем авторы нескольких национальностей. Сам Соллогуб, помимо стихов, публикует комедию «Ночь перед свадьбой, или Грузия через тысячу лет». Именно Тифлис он избирает для своей утопии, и нам стоит заглянуть в это будущее. Итак, напившийся на свадьбе жених-тифлисец, просыпается в городе 2853 года. А мы, не дожидаясь этой даты, сравним предсказания Соллогуба с сегодняшним Тбилиси: «Со всех сторон... огромные дворцы, колоннады, статуи, памятники, соборы... железная дорога». Царит всеобщее просвещение, женщины имеют настолько равные права с мужчинами, что служат в полиции. Правда, потому, что это стало самой легкой работой (!). Сословие купцов сохранилось, но заботится только о пользе покупателей, а не о собственном кармане. Техника дошла до того, что механические камердинеры чешут пятки своим хозяевам. Более того, когда один из персонажей – Карапет, отец Кетеваны – глазея с крыши своего дома на улицу, вдруг хочет поспать, он вставляет ключ в отверстие в трубе, и из окна выезжает кровать, которую подталкивает машина на колесах и пружинах. Ей отдаются приказы: «Машина, положи меня; машина, накрой меня; машина, погаси свечу и отвези в комнату». Все это исполняется, и Карапет уезжает со словами: «Ну, а теперь я сам засну». Извозчики перевозят пассажиров на воздушных шарах, и один упрекает другого в том, что тот «намедни ездока в Средиземное вывалил». О театральном мире: «Согласие между артистами, отсутствие мелочного самолюбия для пользы искусства – вот что отличает ваше полезное сословие». Париж уже неинтересен и банален, ведь центр цивилизации и культуры – Закавказье... Не правда ли, дорогие читатели, есть, о чем сегодня задуматься, чему позавидовать, с чем сравнить? Но литературного творчества Соллогубу мало – он становится одним из учредителей и членом Совета директоров Кавказского Отдела Императорского Русского Географического Общества. Туда входят виднейшие исследователи Кавказа, в разное время членами этого отдела были Илья Чавчавадзе и поэт, драматург, этнограф Рафаил Эристави (Эристов). Первое собрание Совета состоялось за месяц до приезда Соллогуба в Грузию, а уже на втором заседании он поднимает вопрос о создании «Общего Кавказского Музеума». Этнографическую программу музея составляет он сам, а зоологическую и ботаническую – профессор Андрей Бекетов, дед поэта Александра Блока. Первые экспонаты музею передают Соллогуб и Воронцов. При всем этом, как всякий талантливый и независимый в суждениях человек, да к тому же, покровительствуемый высоким начальством, Соллогуб обретает недругов в «свете». И когда ушедшего в отставку Воронцова сменяет генерал Николай Муравьев, «доброжелатели» представляют ему графа как «салонного баловня» и «колкого балагура». Да и у бравого воина – свои представления о функциях подчиненных. Поэтому его разговор с чиновником по особым поручениям по-солдатски лаконичен: «Вы автор «Тарантаса?» и после получения ответа: «Ну, так можете сесть в ваш тарантас и уехать». Это не метафора, а прямое руководство к действию. И граф покидает Тифлис в марте 1855-го, месяца не дотянув до четырех лет пребывания в нем. Но разлука с Грузией – недолгая. Соллогуб служит в Министерстве внутренних дел, особыми обязанностями не обременен, а тут с ним связывается князь Александр Барятинский. Он назначен вместо Муравьева, по состоянию здоровья покомандовавшего Кавказом меньше двух лет. Будущий наместник спрашивает, не желает ли Соллогуб снова вернуться в край, оставивший «неизгладимые впечатления и воспоминания». И рисует заманчивую картину, полностью соответствующую соллогубовским «вкусам и умению: устройство театров в значительных городах, учреждение школ музыки, пения, рисования в Тифлисе». Польщенный граф сравнивает такую перспективу с «маленьким министерством изящных искусств», в котором он исполнит «лестную роль хозяина и господина». И это – при том, что Соллогуб отлично знает не только положительные стороны характера Барятинского, но и его избалованность, тщеславие, желание стать генералиссимусом подобно Суворову. «При таком нраве и при таких стремлениях, понятно, что… Барятинский пожелал придать своему путешествию и вступлению в вверенный его управлению край всевозможную торжественность», - признает он. Но, как свидетельствуют современники, именно Соллогуб «был одним из первых, кого завербовал князь в свою пышную свиту, с которой он открыл свое торжественное шествие на Кавказ» летом 1856-го. Острый на язык писатель сам признается, что въезд в Тифлис с «особенною торжественностью» имел «свою несколько смешную сторону». Но «обрадованный встречей с дорогими друзьями», он был так счастлив, что «не обеспокоивался о… настоящей задаче, т.е. о службе». И тут выясняется, что наместник напрочь позабыл об обещанном «маленьком министерстве изящных искусств»: «Вместо деятельного труда, условленного между мною и Барятинским, оказалось, что мои занятия состояли в устройстве праздников в честь главнокомандующего, импровизации стихов и водевилей. С этим, разумеется, я согласиться не мог». Правда, у высокопоставленного чиновника Корнилия Бороздина – свое мнение, он считает, что Соллогуб мечтал получить «какую-нибудь отдельную часть по управлению в самом Тифлисе или по крайней мере должность губернатора в одной из кавказских провинций… а между тем Барятинскому это и в голову не приходило». Может, и так – отсутствием честолюбия Владимир Александрович не страдал, а тут его делают, говоря по-современному, массовиком-затейником, пусть и высокого ранга. Графа не радует даже любимый Тифлис, он «начал не на шутку томиться таким положением, насупился и стал хандрить»… И еще один фактор. Признавая, что Барятинский стоит намного выше него на служебной лестнице, Соллогуб все-таки не хочет видеть в нем упоенного властью начальника: «По светским условиям, детским воспоминаниям и товарищеским отношениям мы были равны, и разыгрывать роль обер-гофмаршала его дворика вовсе не входило в мои планы». В общем, решительное объяснение с наместником неизбежно. Разговор получается резкий, Барятинский заявляет, что Соллогуб вечно торопится, и что его прескверный характер не позволяет ему ужиться ни с кем. В общем, опять холодное прощание с главой края, опять спешный отъезд в Петербург. Вот так и получилось, что в это пребывание в Грузии Соллогубу не удалось отметиться на литературном поприще. В третий раз он приезжает в Тифлис в 1871-м, и снова по приглашению наместника Кавказа, на этот раз великого князя Михаила Романова. Писатель считает себя уже стариком, хотя ему всего 58 лет. Да и город уже не тот, что жил в его воспоминаниях: «Тифлис начала пятидесятых годов вовсе не походил на Тифлис теперешний; все в нем дышало Востоком, восточной негой, восточной ленью, широким восточным гостеприимством… Такая чудная природа окружала его, такое лучезарное солнце освещало его самые сокровенные и некрасивые уголки, что в нем весело жилось и дышалось легко… Того простодушия, того яркого восточного колорита, что было при Воронцове, я уже не нашел. В крае – я позволю себе так выразиться – уже завоняло Петербургом». И это впечатление, не может не воплотиться на бумаге: Не смею выразить я вслух, Но мир войны не заменяет; Здесь прежде был свободы дух, Теперь... чиновником воняет... Однако последний приезд графа знаменателен, конечно же, не только этими строчками. В Грузию прибывает Александр II с сыновьями. И жена кутаисского военного губернатора просит Соллогуба устроить «торжественный праздник в честь царственного гостя». Припомнив, как за два года до этого, на открытии Суэцкого канала, чествовали императрицу Франции Евгению и императора Австро-Венгрии Франца Иосифа I, Соллогуб решает тряхнуть стариной. Правда, «празднику с местным колоритом» мешает дождь, но бал и живые картины удаются на славу. Естественно, от известного писателя все ждут и стихотворного произведения. И оно зачитывается императору «в присутствии двух-трех приближенных». Так впервые звучит знаменитое «Алаверды»: С времен, давным-давно отжитых, Преданьям Иверской земли, От наших предков знаменитых, Одно мы слово сберегли; В нем нашей удали начало, Преданье счастья и беды, Оно всегда у нас звучало: Аллаверды! Аллаверды! Теперь у этой песни много вариантов, но мало, кто помнит ее создателя… Восторженно встречают эти стихи и в Тифлисе, автор признается: «Они доставили мне едва ли не величайшую овацию, какой я был героем». За несколько дней до отъезда Соллогуба, «прежние сослуживцы-воронцовцы» устраивают ему прощальный ужин: «Самым радушным образом и с такою задушевностью, точно мои старые друзья чувствовали, что мы все там собрались вместе в последний раз». Самый красивый тост, превознося заслуги Соллогуба на Кавказе, поднимает выдающийся грузинский поэт-романтик, князь Вахтанг Орбелиани. В ответ ему гость заявляет, что «работали для края» именно собравшиеся, а он лишь «скакал на пристяжке». И это после всего, что мы видели на очередной сололакской странице! К тому же, можно сказать, что в Тбилиси есть памятник Соллогубу. Нигде в мире нет, а здесь есть. Речь идет о Музее Грузии имени С.Джанашиа, ведь в прошлом это тот самый Кавказский музей который создавал граф. А еще имя Соллогуба в Тбилиси связано с картиной «Дама с девочкой» – работой известного портретиста Ивана Макарова, хранящейся в одном из частных собраний. Это – единственный портрет жены и маленькой дочки Владимира Александровича, скончавшейся в детстве. Он хранился в семье другой дочери – Натальи, вышедшей в Петербурге замуж за князя Георгия Чичуа и вместе с ним переехавшей в Тифлис в 1904 году. Долгое время портрет висел в доме их дочери Майи Чичуа. Ведь внучка Соллогуба жила в любимом им Тбилиси… Ну, а мы, бережно возвращая на полку «Салалакские досуги», кстати, ни разу не издававшиеся после 1855 года, повторим вслед за Владимиром Александровичем: «Да сохранит Бог и Грузию, и нас всех, от половинных чувств и половинных убеждений и познаний». Автор:Владимир ГОЛОВИН, журнал «Русский клуб» 2015 г. http://rcmagazine.ge/index.php...p;Itemid=0 ---
Снегиревы | | |
| snegirev
Сообщений: 1306
На сайте с 2014 г.
Рейтинг: 38491
| Наверх ##
7 августа 2019 10:14 Вельяминовская улица г. Тифлис. 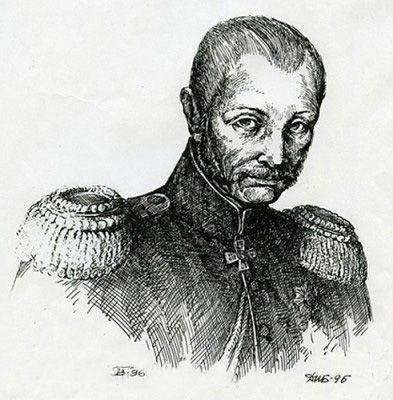 В википедии эта историческая личность описывается: «Алексей Александрович Вельяминов 3-й участвовал в войнах 1805 г., турецкой 1810 г., Отечественной и в кампаниях 1813 и 1814 г., позже (1816-27) — в разных экспедициях против кавказских горцев и в персидской войне, где отличился в бою под Елизаветполем. В 1829 г., назначенный начальником 16-й пехотной дивизии, находившейся в европейской Турции, он с нею участвовал в осаде Шумлы и в переходе через Балканы. В 1831 г. он был назначен командующим войсками Кавказской линии начальником Кавказской области, причем с 1831 по 1838 г. постоянно начальствовал экспедициями против горцев, всегда имевшими полный успех. Выступал за постепенное покорение Кавказа. Мысли его о способах покорения Кавказа вполне оправдались, когда впоследствии, с некоторыми лишь видоизменениями, применены были на практике князем Барятинским и графом Евдокимовым». Он был прозван Горским Ганнибалом: талантливый полководец, блестящий стратег, человек со странностями, которые были не понятны не только врагам, но и своим солдатам и сослуживцам, жесткий, и даже слишком жестокий к своим врагам, но не лишенный благородства, умевший ценить врагов и быть снисходительным к сдавшемуся ему на милость противнику. И все эти качества одном лице: в лице одного из главных героев Кавказской войны – генерале Алексее Александровиче Вельяминове. Уроки прошлого он умел прикладывать к задачам настоящего, щедро одаренный нравственным мужеством, он обладал всеми мыслимыми качествами, которые внушают уважение солдатам, и многими свойствами, что побуждают людей смело идти за этим человеком, и совсем ничем, за что его можно было бы полюбить. Спокойный, выдержанный, молчаливый, скрытный, он был неумолимо безжалостным в отношении своих солдат и беспощаден к врагу; его боялись, превозносили и ненавидели как те, так и другие. Вельяминов был сослуживцем Ермолова во время наполеоновских войн, и они тесно дружили. Когда Ермолова послали на Кавказ, он добился назначения Вельяминова на должность начальника штаба Грузинского корпуса. Здесь, в Тифлисе, аналитический ум и организаторский талант Вельяминова, видимо, внесли решающий вклад в успехи старшего товарища. Осадная стратегия военных операций на Кавказе и реорганизация Кавказского корпуса обычно связываются с именем Ермолова, но разрабатывалось то и другое, а может, и предложено было именно Вельяминовым: «Ликвидация всех независимых и полузависимых ханств и княжеств. Полное подчинение народов и народностей Кавказа России, вытеснение непокорных горцев из своих владений, раздача земель, им принадлежавших, казакам и русским поселенцам. Постепенное продвижение вглубь гор оборонительных линий». Русские исследователи впоследствии ошибочно назовут это «системой Ермолова». Хотя Ермолов и начал проводить ее в жизнь, окончательно она была сформулирована в 1828 г. Вельяминовым (и совершенно несправедливо приписана потом Ермолову). Сам Вельяминов писал о Кавказе следующее: «Кавказ может быть приравнен к мощной цитадели, великолепно укрепленной природой, надежно защищенной инженерными сооружениями и обороняемой многочисленным гарнизоном. Хороший командир не преминет употребить здесь все военное искусство, проложит фортификационные параллели, устроит подкопы, заложит мины и таким образом станет полным хозяином положения. Я считаю, что подход к Кавказу должен быть именно таковым, и если ранее сия метода действий не была предпринята, дабы служить опорой и постоянным ориентиром, сама природа вещей толкнет на такие действия. Но в этом случае успех их будет достижим куда как нескоро из-за частых отклонений от верного курса». Алексей Александрович Вельяминов по данным сытинской «Военной энциклопедии» родился в 1785 г. По мнению одного из дореволюционных биографов военачальника казачьего есаула Труфанова А.А. Вельяминов появился на свет в 1789 г. Однако в формулярном списке генерала за 1834 г. ему значилось 46 лет, следовательно, год его рождения – 1788-й. Вельяминов происходил из старинного рода дворян Московской губернии Подольского уезда, но, по свидетельству Г.И. Филипсона, «не имел никаких аристократических притязаний». Семья Вельяминова обладала, видимо, довольно хорошим состоянием, т. к. за одним Алексеем Александровичем было записано 250 душ крестьян в Казанской и Курской губерниях. Практически ничего неизвестно о том, где воспитывался будущий военачальник. Однако многие современники вспоминают, что он обладал обширными знаниями, особенно в математике. В графе послужного списка о познаниях было отмечено лишь то, что «грамоте по-российски и французски читать и писать умеет и артиллерийскую науку знает». Г.И. Филипсон в своих воспоминаниях отмечал: «Вельяминов хорошо, основательно учился и много читал; но это было в молодости. Его нравственные и религиозные убеждения построились на творениях энциклопедистов и вообще писателей конца XVIII века. За новейшей литературой он мало следил, хотя у него была большая библиотека, которую он постоянно пополнял. Он считался православным, но кажется, был деистом, по крайней мере никогда не бывал в церкви и не исполнял обрядов. Настольными его книгами были «Жильблаз» и «Дон-Кихот» на французском языке. Первого ему читали даже накануне смерти; изящная литература его нисколько не интересовала». «На службу Вельяминов зачислен был по тогдашнему обыкновению, – писал В.А. Потто, – в лейб-гвардии Семёновский полк, и шестнадцати лет от рода был уже поручиком артиллерии». В 1804 г. Вельяминов был произведён в офицеры лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады. Участвовал в компании 1805 г. против Франции. В 1810 г. принял участие в русско-турецкой войне, а затем в Отечественной войне 1812 г. и в заграничных походах русских войск. «Боевая деятельность, начавшаяся под Аустерлицом и кончившаяся в стенах Парижа, – отмечал историк, – далеко выдвинула его из рядов сверстников. Раненый в руку при штурме Рущука, имея Георгиевский крест за блистательное участие в трёхдневном сражении под Красным, Вельяминов, тогда ещё штабс-капитан первой гвардейской артиллерийской бригады, уже обратил на себя особенное внимание Ермолова. По настоянию последнего в 1816 году он и был назначен на важный пост начальника штаба отдельного Грузинского корпуса. Через два года, на двадцать восьмом году от рождения, он был уже генералом». По воспоминаниям современников, Вельяминов сделался верным другом и помощником Алексея Петровича: «Они были на ты и называли друг друга Алёшей». Любя и почитая А.П. Ермолова как отца, Вельяминов под его началом стал настоящим «кавказцем». Ермолов широко пользовался административными и военными дарованиями Вельяминова, его энергией, огромной трудоспособностью и, наряду со штабной работой, постоянно поручал ему командование отдельными отрядами в экспедициях. «На Кавказе, – по словам В.А. Потто, – Вельяминов поспевает всюду, где только могла встретиться надобность в его знаниях и энергии: закладывает вместе с Ермоловым Сунженскую линию, строит Внезапную, громит акушинцев, затем усмиряет бунт в Имеретии, гасит восстание в шамхальстве, играет влиятельную роль в покорении Кабарды – и, наконец, является в роли начальника центра и правого фланга Кавказской линии». «За благоразумные распоряжения во время прекращения бунта в Имеретии и Гурии» Вельяминову были пожалованы алмазные знаки ордена Св. Анны 1 степени, а «за поражение абадзехов и укрощение мятежа в Кабарде» – орден Св. Владимира 2-й степени большого креста. Генерал А.А. Вельяминов был одним из главных виновников победы русских войск над иранской армией в сражении под Елисаветполем. Вельяминов и Мадатов атаковали иранские войска по всему фронту. В одном из писем приятелю Вельяминов сообщал: «13 го числа разбили мы у Елисаветполя самого Аббас-Мирзу, который бежал за Аракс не оглядываясь. Теперь все ханства очищены. Без сомнения, всё будет приписано теперь Паскевичу, но ты можешь уверен быть, что если дела восстановлены, то, конечно, не от того, что он сюда прислан, а несмотря на приезд его». Награждённый за это сражение орденом Св. Георгия 3-й степени, Вельяминов с отставкой А.П. Ермолова также должен был покинуть край и искать службы в России. Его назначают командиром 16-й пехотной дивизии, находившейся на европейском театре войны с Турцией, и в этом качестве А.А. Вельяминов участвовал в осаде Шумлы и в переходе через Балканы. В 1830 г., писал В.А. Потто, «Вельяминов появляется опять на Кавказе, но уже облегчённый безусловным доверием фельдмаршала, – так немногие годы войны радикально изменили взгляды Паскевича на предшествовавшую ему эпоху и на её деятелей. Вельяминов, принадлежавший к числу тех людей, для которых почти не существует собственного «я», а есть только долг, исполнение службы да готовность принести себя всецело на алтарь отечества, не колеблясь, принял предложение фельдмаршала». Получив сначала 14-ю дивизию и успев, видимо, принять участие в подавлении польского восстания, Вельяминов в 1831 г. назначается командующим войсками Кавказской линии и начальником Кавказской области. Прибытие Вельяминова совпало с новым всплеском движения мюридизма. Направленный против имама Кази-Муллы в Дагестан, Вельяминов нанёс ему в октябре 1831 г. сильное поражение при Чир-Юрте. С 1832 г. Вельяминов руководит строительством укреплений Геленджикской кордонной линии и Черноморской береговой линии. Постройка укреплений, прокладка дорог и просек сопровождалась постоянными стычками с горцами. Даже в бесперспективные в плане обороны укрепления на Черноморском побережье Вельяминов старался вложить весь свой военный талант. «Спуск к укреплению Кабардинскому, – вспоминал современник, – шёл по удобному шоссе, сделанном в предыдущем году Вельяминовым и напоминавшему римские работы. Это укрепление было устроено на одну роту. Очертание разбивал сам Вельяминов, старавшийся с особенной заботливостью дефилировать внутреннее пространство от неприятельских выстрелов. От этого укрепление получило форму, наименее пригодную для такого военного учреждения – форму стрелы с наконечником на одном конце и с перьями по обе стороны другого конца». И еще одна немаловажная деталь: при Вельяминове Кавказский корпус получил организацию, просуществовавшую еще четверть века. Среди прочего полки и их штабы получили постоянное место дислокации, были включены в систему осадных параллелей и превращены в хозяйственно-производственные единицы, отчасти способные к самообеспечению. Генерал Вельяминов был сыном своей эпохи и своего времени. Осуждать сегодня, с точки зрения современной морали его за излишнюю жестокость, как пытаются делать некоторые кавказские исследователи, нет смысла. Для Алексея Александровича, выученика энциклопедистов, Вольтера, Монтескье способ существования горцев и само их миропредставление были принципиально незаконны, алогичны. Их следовало силой заставить жить правильно. А.А. Вельяминов принадлежал к типу кавказских военачальников со сложившейся концепцией собственной и чужой жертвенности на алтаре государственных интересов империи. Помимо руководства боевыми действиями Алексей Александрович вынужден был заниматься и гражданскими делами Кавказской области, развитием торговли и промыслов, улучшением дорог. Именно Вельяминову город Ставрополь обязан своим сохранением и развитием. Когда император в октябре 1837 г. посетил город, раскисший от долгой непогоды и многочисленной слякоти, Ставрополь был настолько непригляден, что Николай I распорядился его упразднить и перенести на Кубань. Если бы Вельяминов, человек опытный, твёрдый и властный не объяснил государю, что более удобного в стратегическом отношении места для штаб-квартиры на Северном Кавказе не сыскать, приказ наверняка бы исполнили. До революции одна из ставропольских улиц называлась Вельяминовской. Значилось имя Алексея Александровича и на карте Кубани. В 1864 г. на месте бывшего укрепления Вельяминовского было основано селение Вельяминовское, преобразованное в 1896 г. в г. Туапсе. Все очевидцы и современники Вельяминова подчеркивали странности в его характере. Например: он имел привычку говорить почти всем «дражайший». На людях он появлялся только тогда, когда отправлялся в экспедицию против горцев. Все остальное время просиживал в одной из комнат занимаемого им дома. Отправляясь в экспедицию, когда спрашивали его подчиненные генералы: куда, он неизменно отвечал им: «Дражайший! барабанщик вам это укажет!» В походе он ходил подобно Наполеону I: сверх мундира в сером коротком сюртуке. У него был открытый стол, к которому приглашались все небогатые офицеры и штабные. Вельяминов был одинок и умер от полной апатии ко всему. Непосильные труды во славу Отечества подорвали здоровье генерала Вельяминова. Во время одной из экспедиций, заметив усталость солдат и желая подать им пример, Алексей Александрович 6 часов простоял в снегу, что привело к смертельному заболеванию. «У него открылась тяжкая водяная болезнь», – писал есаул Труфанов. Когда местная медицина исчерпала свои возможности, Николай I прислал своего лейб-медика Енохина, но генерал от помощи его отказался и 27 марта 1838 г. скончался. По желанию Вельяминова его тело было отправлено в село Медведку Алексинского уезда Тульской губернии, где было имение генерала. Автор Фазил Дашлай (г. Батайск) http://golos.ruspole.info/node/466 Улица сейчас называется - Дадиани, но многие помнят её по старому названию -Вельяминовская.. ---
Снегиревы | | |
| snegirev
Сообщений: 1306
На сайте с 2014 г.
Рейтинг: 38491
| Наверх ##
7 августа 2019 19:55 11 ноября 2019 21:51 Генерал Алексей Петрович Ермолов ( 1777 — 1861)  Портрет А.П. Ермолова" художника Д. Доу. А. П. Ермолов происходил из старинной, но небогатой дворянской семьи. Его отец, Петр Алексеевич Ермолов (1747–1832), был владельцем небольшого имения из 150 душ крестьян в Мценском уезде Орловской губернии. В царствование Екатерины II он занимал должность правителя канцелярии генерал-прокурора графа А. Н. Самойлова, а с вступлением на престол Павла I вышел в отставку и поселился в своей деревне Лукьянчикове. Мать А. П. Ермолова, урожденная Давыдова, находилась во втором браке за его отцом. По матери А. П. Ермолов находился в родстве с Давыдовыми, Потемкиными, Раевскими и Орловыми. Знаменитый партизан и поэт Денис Давыдов доводился ему двоюродным братом. А. П. Ермолов родился 24 мая 1777 г. в Москве. Поначалу он получил домашнее образование. Первым его учителем был дворовый крестьянин. Далее Ермолов проходил обучение у богатых и знатных родственников, приглашавших домашних учителей. Свое образование Ермолов завершил в Благородном пансионе при Московском университете. Как тогда было принято, еще в младенчестве Ермолов был записан в военную службу: в 1778 г. уже числился каптенармусом лейб-гвардии Преображенского полка, а вскоре — сержантом этого полка. Начал А. П. Ермолов военную службу в 15-летнем возрасте: в 1792 г. он был привезен в Петербург, произведен в капитаны и зачислен в Нежинский драгунский полк старшим адъютантом к генерал-поручику А. Н. Самойлову. С 1794 г. начинается боевая служба Ермолова. В тот год он отличился при штурме предместья Варшавы Праги и был замечен командующим русскими войсками против повстанческой армии Тадеуша Костюшко А. В. Суворовым. По личному распоряжению Суворова Ермолов был награжден орденом Георгия 4-й степени. В 1795 г. Ермолов был возвращен в Петербург и определен [4] во 2-й бомбардирский батальон, но в том же году по протекции влиятельного графа А. Н. Самойлова был направлен в Италию, где находился при главнокомандующем австрийскими войсками генерале Девисе, действовавшими против французских войск, находившихся в Италии. Однако вскоре Ермолов был вызван в Петербург и назначен в Каспийский корпус графа В. П. Зубова, направленный против вторгнувшейся в Закавказье армии Ага Мохаммед-хана Каджара (с 1796 г. шаха Ирана). После смерти Екатерины II корпус Зубова был выведен Павлом I из Закавказья. На первых порах военная карьера А. П. Ермолова складывалась удачно. В 1797 г. он уже в чине майора, а 1 февраля 1798 г. ему присваивают чин подполковника и назначают командиром конноартиллерийской роты, расквартированной в небольшом городке Несвиже Минской губернии. Но вскоре ему было суждено выдержать суровые испытания. Письмо явилось поводом для ареста и допроса Ермолова, который был доставлен в Петербург и посажен в каземат Алексеевского равелина. Через два месяца он был выпущен из каземата и направлен в виде царской «милости» в ссылку в Кострому. Здесь он познакомился с М. И. Платовым, также находившимся в ссылке, впоследствии знаменитым атаманом Войска Донского, героем войны 1812 г. В костромской ссылке Ермолов интенсивно занимался самообразованием: много читал, самостоятельно изучил латинский язык, сделал ряд переводов с сочинений римских классиков. О годах этой ссылки он рассказывает в «Заметках» о своей молодости, публикуемых в настоящем издании. Арест, каземат и ссылка сильно подействовали на Ермолова. По его признанию, Павел I «в ранней молодости мне дал жестокий урок». После этого скрытность, осторожность, умение лавировать стали характерными чертами Ермолова. Он признавался, что его «бурной, кипучей натуре» впоследствии было бы «несдобровать», если бы не этот «жестокий урок». Позже он будет демонстративно подчеркивать свою лояльность к режиму, незаинтересованность политическими делами. При воцарении Александра I в числе многих опальных и сосланных при Павле I был возвращен из ссылки и А. П. Ермолов. 9 июня 1801 г. он вновь был принят на службу и отправлен в Вильну, где находился до 1804 г. В 1805 г. против Наполеона оформилась новая, третья, коалиция, которую составили Россия, Англия, Австрия, Швеция и Неаполитанское королевство. Однако фактически против Наполеона были направлены лишь русские и австрийские войска. Во главе русской армии был поставлен М. И. Кутузов. В составе ее находилась и конная артиллерийская рота под командованием подполковника А. П. Ермолова. В ходе этой войны Ермолов со своей ротой участвовал в сражениях с французами при Амштеттене и Кремсе. Храбрый и распорядительный артиллерийский подполковник был замечен Кутузовым. Вопреки советам дальновидного Кутузова 20 ноября (2 декабря) 1805 г. было дано сражение на неудачно избранной для русско-австрийских войск позиции при г. Аустерлице близ Вены, закончившееся победой Наполеона. В этом сражении стремительной атакой французов была захвачена артиллерийская рота Ермолова вместе с ее командиром, но подоспевшие русские гренадеры контратакой освободили его из плена. Почти вся Пруссия была занята французскими войсками. В последующие семь месяцев русской армии одной пришлось вести упорную борьбу против превосходивших сил Наполеона. В этой войне уже в чине полковника и командира 7-й артиллерийской бригады принимал участие А. П. Ермолов, о чем подробно он рассказывает в своих «Записках». Ермолов находился на самых опасных участках сражений при Прейсиш-Эйлау 26–27 января (7–8 февраля) и под Фридландом 2 (14) июня 1807 г. Артиллерия Ермолова оказала существенную поддержку русским войскам в этих сражениях. В эту кампанию русской армией командовал не отличавшийся военными талантами Л. Л. Беннигсен (М. И. Кутузов после Аустерлица попал в опалу и был назначен киевским генерал-губернатором) В войне 1806–1807 гг. Ермолов получил уже широкую известность как талантливый и храбрый штаб-офицер. Благоволивший к нему П. И. Багратион дважды представлял его к присвоению звания генерал-майора, но всякий раз на пути стоял Аракчеев. В конце 1807 г. всесильный временщик неожиданно сменил гнев на милость, и в начале 1808 г. Ермолову присваивают звание генерал-майора, а затем он получает назначение на должность начальника резервного отряда, расквартированного в Волынской и Подольской губерниях. Любопытно свидетельство сестры А. С. Грибоедова М. С. Дурново, встречавшейся в 1811 г. с Ермоловым в Киеве: «Прием генерала был весьма ласков и вежлив. Обращение Ермолова имеет какую-то обворожительную простоту и вместе с тем обаятельность. Я заметила в нем черту, заставляющую меня предполагать в Ермолове необыкновенный ум... Черты лица и физиономия Ермолова показывают душу великую и непреклонную». В конце 1811 г. Ермолова вызывают в Петербург и назначают командиром гвардейской бригады, которую составляли Измайловский и Литовский полки, а в марте 1812 г. он назначен командиром гвардейской пехотной дивизии. Военная карьера Ермолова вновь стала складываться успешно. Грянула «гроза двенадцатого года». В ночь на 12 (24) июня 1812 г. многоязычная 600-тысячная «Великая армия» Наполеона вторглась в пределы России. 1 июля 1812 г. Ермолов назначен начальником штаба 1-й Западной армии, которой командовал военный министр М. Б. Барклай де Толли. С этого времени Ермолов непосредственный участник всех более или менее крупных сражений и боев Отечественной войны 1812 г., как во время наступления французской армии, так и в период ее изгнания из пределов России. Особенно он отличился в сражениях при Витебске, Смоленске, Бородине, Малоярославце, Красном, Березине. После Смоленского сражения 7 августа ему присваивают звание генерал-лейтенанта. Слава Ермолова как талантливого военачальника росла. С прибытием 17 августа к соединенной армии М. И. Кутузова Ермолов становится начальником его штаба — в этой должности он находился вплоть до изгнания французов из пределов России, при этом помимо «штабной» работы во время контрнаступления русской армии он командует ее авангардом. 25 декабря 1812 г. был издан царский манифест, возвещавший об окончании Отечественной войны. Но это не означало прекращения военных действий против Наполеона, которые теперь были перенесены за пределы России. Начались знаменитые заграничные походы русской армии 1813–1814 гг., завершившиеся крахом наполеоновской империи, отречением Наполеона от власти и его изгнанием. Уже в самом начале заграничного похода А. П. Ермолов был поставлен во главе всей артиллерии русской армии. В кампанию 1813 г. он участвовал в сражениях при Дрездене, Люцене, Бауцене, Лейпциге, Кульме. После кульмской победы над французскими войсками, в которой особенно отличился Ермолов, Александр I спросил его, какой награды он желает. Острый на язык Ермолов, зная приверженность царя к иностранцам на русской службе, ответил: «Произведите меня в немцы, государь!» Эта фраза потом с восторгом повторялась патриотически настроенной молодежью. В декабре 1813 г. французские войска отступили за Рейн, и кампания 1814 г. началась уже в пределах Франции. 18 (30) марта под стенами Парижа произошла последняя битва между войсками коалиции и Наполеона. Ермолов здесь командовал русской и прусской гвардиями. На следующий день союзные войска вступили в Париж. В мае 1814 г. он назначается командующим 80-тысячной резервной армией, дислоцированной в Кракове. Союзные войска в 1815вновь вступили в Париж. В их составе находился со своим корпусом и Ермолов. В ноябре 1815 г. Ермолов сдал корпус генералу И. Ф. Паскевичу и вернулся в Россию. Взяв отпуск, он отправился к отцу в Орел. 6 апреля 1816 г. последовал рескрипт Александра I о назначении Ермолова командиром отдельного Грузинского (с 1820 г. — Кавказского) корпуса и управляющим по гражданской части на Кавказе и в Астраханской губернии. Одновременно состоялось и назначение его главой чрезвычайного посольства в Иран для выполнения важной миссии — проведения скорейшего разграничения земель между Ираном и Россией согласно Гюлистанскому мирному договору 1813 г. Для получения официальных бумаг и инструкций Ермолов прибыл в Петербург. В начале августа он покинул столицу, по дороге на несколько дней заехал в Москву, а оттуда отправился к месту своей новой службы — в Тифлис. 12 октября Ермолов официально вступил в свою должность, приняв дела у своего предшественника генерала Н. Ф. Ртищева. Российское самодержавие прекрасно понимало огромное значение Кавказа как важного военно-стратегического плацдарма для проведения своей восточной политики. Этому также способствовало и влияние международных факторов в начале XIX в.: укрепление позиций европейских государств, в первую очередь Англии и Франции, на Ближнем и Среднем Востоке, рост прорусской ориентации ряда кавказских народов, страдавших как от междоусобиц, так и от разорительных нападений со стороны Османской Турции и шахского Ирана. Назначая Ермолова наместником Кавказа, Александр I преследовал далеко идущие военно-политические цели: он рассчитывал на то, что Ермолов, талантливый и энергичный государственный и военный деятель, наиболее подходящая кандидатура, способная выполнить задачи укрепления позиций России на Кавказе и приведения в подданство российскому императору непокорных горских народов. В исследовательской литературе высказывается и такое предположение: Александр I преследовал также и другую цель — удалить на Кавказ очень популярного в передовых кругах России генерала. После Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов русской армии известность Ермолова настолько возросла, что его рассматривали как наиболее вероятную кандидатуру на пост военного министра. 17 апреля 1817 г. Ермолов со свитой 200 человек выехал в Иран. 19 мая в Тавризе произошла его встреча с наследником престола Аббас-Мирзой, а в июле — переговоры с самим шахом в его летней резиденции. Миссия Ермолова завершилась успешно: были решены спорные пограничные и территориальные вопросы, установлены дипломатические отношения России с Ираном. Дипломатическая миссия Ермолова в Иран подробно описана им в официальной «Записке», представленной Александру I. При вступлении в должность командующего отдельным Грузинским корпусом и генерал-губернатора Кавказа и Астраханской губернии Ермолов представил Александру I план своей военной и административной деятельности на Кавказе. План был одобрен царем. Он включал в себя приведение в подданство горских народов Северного Кавказа и завершение образования российского административного устройства на Кавказе. Именно с этого времени началась долгая и упорная Кавказская война (1817–1864) — завоевание русским царизмом Чечни, Горного Дагестана и Северо-Западного Кавказа. Ермолов начал с покорения Чечни и Горного Дагестана. Оно проводилось суровыми военно-колониальными методами. Непокорные селения сжигались, сады вырубались, скот угонялся, покоренные народы приводились к присяге на верность российскому императору, облагались данью, у них брались заложники ( «аманаты»). Ермолов заново создал укрепленную Кавказскую линию как опору для планомерного наступления на территории горских народов Кавказа. В 1818 г. была заложена крепость Грозная (ныне г. Грозный), затем цепь других крепостей по рекам Сунже, Тереку, Кубани, где были поселены казаки и расквартированы регулярные войска. Прокладывались дороги, в лесах прорубались просеки. Строительство крепостей и дорог проводилось не только силами русских солдат: для этих работ массами сгонялось и местное население, для которого возведение укрепленной линии явилось тяжкой повинностью. В начале 1818 г. народы Дагестана подняли восстание, заключили между собой союз о совместных действиях против русских войск. К нему примкнули Аварское, Казикумыкское ханства, владения Мехтулинское, Каракайдакское, Табасаранское и вольное Акушинское общество. Восстание охватило обширный район. Действуя решительно, Ермолов зимой 1818 г. разгромил Мехтулинское ханство, а в 1819 г. генерал В. Г. Мадатов покорил Табасарань и весь Каракайдаг. Битва 19 декабря 1819 г. русских войск с повстанческими отрядами решила судьбу Северного Дагестана, который был присоединен к России. Решительными мерами Ермолов подавил сепаратистские выступления в 1819–1820 г. местной светской и церковной знати в Имеретии, Гурии и Мингрелии. В 1822 г. Ермолов начал наступление на Кабарду, одновременно создавая линию крепостей в этом регионе. Попытка народов Чечни и Кабарды в 1825 г. поднять восстание была пресечена. Вместе с тем военно-административная деятельность Ермолова на Кавказе бесспорно имела и положительные стороны. Была прекращена межнациональная рознь, сопровождавшаяся разбойными набегами, покончено с работорговлей. Немало было сделано Ермоловым для развития сельского хозяйства, промышленности, торговли и культуры Закавказья. Ермолов поощрял развитие шелководства и виноградарства, строительство в городах, обеспечил безопасность дорог, реконструировал Военно-Грузинскую дорогу через Кавказский хребет и проложил ряд новых дорог, имевших большое стратегическое и хозяйственное значение. В Тифлисе были построены монетный двор, меднолитейный и пороховой заводы. В 1819 г. стала выходить первая грузинская газета. Ермолов много занимался устройством сети школ в Грузии. Ермолов много занимался благоустройством Тифлиса, Дербента, Шемахи. В Тифлисе им был открыт офицерский клуб с богатой библиотекой. На 100 тыс. руб., выданных ему на посольство в Иран в 1817 г., он построил для солдат госпиталь в Тифлисе. Были построены или благоустроены курорты в Ессентуках, Пятигорске, Железноводске, Кисловодске. 28 ноября 1824 г. по представлению Ермолова Александр I утвердил указ о праве выкупа в Грузии крепостных крестьян на волю во время продажи их с публичного торга: крестьянам давалась возможность с помощью субсидий от казны вносить за себя на торгах требуемую сумму и тем самым приобрести свободу со всем имуществом. Он был в 1847 г. положен в основу аналогичного указа и для русских губерний. В 1820 г. вспыхнули революции в Португалии, Испании, Неаполе. Александр I предложил военную «помощь» Австрии и готовил армию для похода в Италию. Он вызвал в Лайбах Ермолова и предложил ему пост командующего этой армией. Ермолов отрицательно отнесся к иностранной интервенции в Италию для подавления в ней революции и применил всю свою дипломатию, чтобы Россия не участвовала в этой акции. Следует заметить, что европейские державы, особенно Австрия, не желая уси Александр I, чтобы вознаградить Ермолова за несостоявшееся его назначение командующим русской экспедиционной армией, назначил ему «аренду» с годовым доходом 40 тыс. рублей. Ермолов убедил царя отменить подписанный им рескрипт и употребить указанную сумму для помощи бедным служащим. Ермолов отвергал всякие титулы и отличия. «Боже, избави, если меня вздумают обезобразить графским титулом», — заявил он в ответ на ходившие упорные слухи о возможном возведении его в графское достоинство. Высокие нравственные качества, ум и порядочность — вот что он ценил в человеке. «Пред лицом справедливости не имеет у меня преимуществ знатный и богатый пред низкого состояния бедным человеком», — писал он в одном из писем своему другу. В марте 1821 г. против османского ига восстали греки. Вся передовая Россия (и особенно декабристы) выступила с требованием защитить восставших греков. Советовал Александру I оказать поддержку грекам и Ермолов, но царь не внял его советам, считая греков «мятежниками», восставшими против своего «законного» государя. На Кавказе под его начальством служили в разное время декабристы А. А. Авенариус, П. Г. Каховский, Е. Е. Лачинов, А. И. Якубович, В. К. Кюхельбекер, П. М. Устимович, П. А. Муханов, Г. И. Копылов и другие, которые составляли его «окружение». Ближайшим другом Ермолова был А. С. Грибоедов, тесно связанный с декабристами и, возможно, как считала академик М. В. Нечкина, член их тайных организаций. Ермолов сразу отметил обаяние личности Грибоедова: его острый ум, глубокие познания, открытое, благородное поведение, что не могло не вызвать к Грибоедову симпатии прославленного генерала, который скоро принял его в свой «ближний кружок». Когда начались аресты декабристов и на Кавказ прибыл фельдъегерь с приказом доставить в Петербург Грибоедова, Ермолов дал возможность своему другу уничтожить «опасные» для него документы. Ермолов давно уже знал о существовании тайных декабристских обществ. В конце 1820 г., когда стали поступать первые доносы на них Александру I, Ермолов первым делом предупредил своего адъютанта полковника П. X. Граббе: «Оставь вздор, государь знает о вашем обществе». Такое же предупреждение он сделал и М. А. Фонвизину. При проезде своем из Лайбаха на Кавказ в начале 1821 г. он обратился к Фонвизину со следующими словами: «Поди сюда, величайший карбонари! Я ничего не хочу знать, что у вас делается, но скажу тебе, что он (т. е. Александр I. — В. Ф.) вас так боится, как я бы желал, чтобы он меня боялся». Рылеев говорил своим собратьям по тайному обществу: «Генерал Ермолов знает о существовании нашего общества», «Ермолов наш». Ермолов давно уже был окружен густой сетью осведомителей, которые, однако, из-за его крайней осторожности не смогли добыть о нем каких-либо компрометирующих данных. Любопытен ответ Дибича Николаю: «Нащет Кавказского корпуса я должен сказать, что по всем сведениям, кои доходили к нам до сего времени, я не могу предполагать от командира оного и малейшего отклонения от пути закона... Я посему опасаюсь, что отсылка кого-либо из флигель-адъютантов могла бы возродить подозрение в таком человеке, который действует в хорошем смысле и по уму своему может, наверно, проникнуть [во] всякий предлог, и по известному честолюбию его могла бы возродить в нем дурные мысли». Николай I с тревогой ожидал известий о том, как пройдет присяга на верность ему в корпусе Ермолова. У декабристов была надежда на то, что Ермолов со своим корпусом «пойдет на Петербург», и они были разочарованы, когда их надежды не оправдались. В то время ходили упорные слухи о том, что корпус Ермолова откажется от присяги Николаю I и двинется на Петербург. А. И. Кошелев в своих воспоминаниях говорит о широко распространявшихся тогда в Москве слухах: «Ермолов не присягает и со своими войсками идет с Кавказа на Москву». Эти слухи зафиксировала и тайная агентура: «Все питаются надеждой, что Ермолов с корпусом не примет присяги». 22 декабря 1825 г. доносчик на декабристов А. И. Майборода среди прочих показаний следствию упомянул о существовании Кавказского общества, о котором он «слышал от Пестеля». Пестель сначала отрицал показание Майбороды, но доставленный 4 января 1826 г. в Петербург сообщил Следственному комитету, что он слышал о существовании этого общества и о причастности к нему Ермолова от С. Г. Волконского и А. И. Якубовича. Начались интенсивные допросы всех декабристов, которые что-либо знали или слышали о Кавказском тайном обществе, особенно Волконского и Якубовича. Наиболее подробные показания следствие получило от С. Г. Волконского, который в бытность свою в 1824 г. на Кавказе встречался неоднократно с А. И. Якубовичем, и тот рассказал ему о Кавказском тайном обществе, его структуре, не назвав, впрочем, ни одного из членов. Допрошенный Якубович категорически отрицал существование Кавказского общества и свел все дело к тому, что он якобы «в хмельном угаре» решился «похвастаться» перед Волконским, рассказав ему «небылицы» об этом обществе. Кавказское общество было признано следствием «мнимым» (т. е. не существовавшим). Николай I разработал в дальнейшем план дискредитации Ермолова по военной линии, снятия его с постов и отставки». В июне 1826 г. иранский шах, подстрекаемый Англией, начал военные действия против России. 60-тысячная армия под командованием Аббас-Мирзы вторглась в Карабах и повела наступление по направлению на Тифлис. Ей удалось дойти до Гянджи, где она была наголову разбита в сентябре 1826 г. 12-тысячным отрядом русских войск при поддержке ополчения из местного населения. Однако первые военные неудачи русских войск послужили Николаю I благоприятным предлогом направить на Кавказ своего фаворита генерала И. Ф. Паскевича. Вскоре между Ермоловым и Паскевичем возник конфликт, для разрешения которого был послан И. И. Дибич. Он принял сторону Паскевича, вел себя по отношению к Ермолову развязно и даже оскорбительно, чуть ли не устраивая ему пристрастные допросы. В своих донесениях царю Дибич писал, что «пагубный дух вольномыслия и либерализма разлит между войсками» корпуса Ермолова. Не остался без внимания и факт благосклонного приема Ермоловым сосланных на Кавказ и разжалованных в рядовые декабристов, которые были даже «званы на некоторые офицерские обеды». Судьба Ермолова была решена. 27 марта 1827 г. он был освобожден от всех должностей. Уведомляя Ермолова об отставке, Николай I писал ему: «По обстоятельствам настоящих дел в Грузии, признав нужным дать войскам, там находящимся, особого Главного начальника, повелеваю Вам возвратиться в Россию и оставаться в своих деревнях впредь до моего повеления». Вместе с Ермоловым были уволены в отставку и его сподвижники ( «ермоловцы»), признанные «вредными». Ни для кого не были тайной истинные причины смещения Ермолова — подозрения царя в причастности Ермолова к заговору декабристов. «По наговорам, по подозрению в принятии участия в замыслах тайного общества сменили Ермолова», — писал декабрист А. Е. Розен. Тайная агентура доносила, что «войско жалеет Ермолова», «люди (т.е. солдаты) горюют» в связи с его отставкой. Преданность ему солдат и офицеров были столь велики, что Николай I всерьез опасался возможных волнений в Кавказском корпусе. Отставка Ермолова вызвала большой резонанс в передовых общественных кругах. В архиве III отделения сохранилась сводка сведений под названием «Общие рассуждения о Ермолове, собранные из различных сторон». Здесь говорится о «сильнейшем впечатлении», которое произвело на русскую общественность «падение» Ермолова, о «негодовании на правительство» различных лиц в связи с этой отставкой, об «участии» к Ермолову. И впоследствии III отделение продолжало собирать секретные сведения о поведении опального генерала, а также и о лицах, его посещавших. После отставки Ермолов до начала мая 1827 г. находился в Тифлисе, приводя в порядок свои дела, затем в простой кибитке выехал на жительство к своему престарелому отцу в его орловское имение Лукьянчиково. Здесь он занялся хозяйством, много времени проводил за чтением книг, изредка наезжал в Орел. Однажды он посетил Орловское дворянское собрание, что явилось событием для этого провинциального города. Ермолов принял за правило не принимать у себя только городских чиновников, «а всякому другому доступ свободен». В августе 1827 г. Ермолова посетил его ближайший родственник и большой друг Денис Давыдов. В 1829 г. А. С. Пушкин по пути на Кавказ специально сделал крюк в 200 верст, чтобы заехать в село Лукьянчиково к Ермолову, который принял его «с обыкновенною любезностию». Позже, также по пути на Кавказ, у Ермолова бывал М. Ю. Лермонтов. В. А. Федоров http://militera.lib.ru/memo/russian/ermolov_ap/pre.html Ермоловская улица (в Тифлисе) сейчас называется ул. Читадзе. ---
Снегиревы | | |
| snegirev
Сообщений: 1306
На сайте с 2014 г.
Рейтинг: 38491
| Наверх ##
7 августа 2019 21:20 11 января 2020 15:40 Эриванская площадь и улица Паскевича в Тифлисе были названы в честь графа Ивана Фёдоровича Паскевича-Эриванскского  Светлейший князь Варшавский, граф Иван Фёдорович Паскевич-Эриванский Художник Д.Доу Иван Федорович Паскевич родился в Полтаве 8-го мая 1782 года. Фамилия его известна на Украине свыше 400 лет. Отец Федор Григорьевич служил в Малороссийской Коллегии под начальством Президента ее и генерал-губернатора Малороссии генерал-фельдмаршала Румянцева-Задунайского. Положение отца способствовало поступлению в 1794 году Ивана Федоровича в Пажеский корпус. Быстрые успехи и примерное поведение вскоре обратили на него внимание начальников. 5-го октября 1800 года он был выпущен из корпуса поручиком лейб-гвардии Преображенского полка, с назначением флигель-адъютантом императора Павла 1-го. С началом войны с Турцией в 1806 году Паскевич в чине штабс-капитана принимал участие в сражениях при Яссах, Бухаресте и Измаиле. В 1809 году он участвовал в штурме Браилова и был произведен в полковники. В последующем, командуя батальоном, он особенно отличился в битве с Пеглеван-пашею при селе Татарице. В 1810 году Паскевич командует Витебским мушкетерским полком. Командуя полком, он отразил высадку турецкого десанта в районе Варны. В этом бою проявился полководческий талант Ивана Федоровича. 28 ноября 1810 года Паскевич получает звание генерал-майора. В 1811 году Паскевич становится командиром бригады, а в 1812 он командует 26 дивизией, с которой и вступает в Отечественную войну в армии Багратиона. Первое боевое столкновение с французами для Паскевича произошло у деревни Салтановка близь Могилева. В этом же сражении он одержал свою первую победу над французами и прикрыл 2-ю армию Багратиона, отходившую к Смоленску. В сражении за Смоленск Паскевичу была поручена оборона ключевой позиции, Королевского бастиона. Находившиеся в его распоряжении шесть батальонов отбили несколько атак противника, что позволило выиграть время для соединения армий Барклая-де-Толли и Багратиона. Вспоминая это сражение на острове Святой Елены, Наполеон вынужден был признать, что решительного удара по Королевскому бастиону совершить не удалось. В Бородинском сражении Паскевич вновь проявил бесстрашие и самоотверженность. С четырьмя полками 26-ой дивизии он оборонял Курганную батарею, находившуюся в центре нашей позиции. Атаки французов на этом участке были самыми отчаянными, но все они были отбиты. В последующем он входил в арьергард Милорадовича, защищавшего отход войск из Москвы. В битве за Малоярославец дивизия Паскевича неоднократно врывалась в город, а затем по приказанию Кутузова осуществляла прикрытие дороги на Калугу. Участие дивизии Паскевича в сражении под Вязьмой, где он командовал центром и правым флангом, позволило ему ворваться в Вязьму, опрокинуть арьергард французов и занять верхний город. Ночью Паскевич преградил неприятелю большую дорогу, и все попытки французов пробиться сквозь ряды наших войск ни к чему не привели. После Вяземской битвы дивизия Паскевича была назначена в авангард Милорадовича. В битве при Красном Паскевич нанес поражение маршалу Нею, захватив много пленных, знамена и всю артиллерию. Продолжая преследовать французов, Паскевич вышел на границу России. 12 декабря в Вильно был прием у императора Александра I, где Кутузов отрекомендовал Паскевича как одного из лучших генералов своей армии. Вскоре Иван Федорович был назначен командовать седьмым корпусом, который включал в себя 8 пехотных полков и 48 орудий. В 1813 году корпус Паскевича, преследуя французов, принудил маршала Сен-Сира отступить к Дрездену. Наконец, в знаменитой битве под Лейпцигом Паскевич одним из первых ворвался в предместье города и взял 4 тысячи пленных и более 30 орудий. ак активный участник "Битвы народов" он был удостоен звания генерал-лейтенанта. Войска под руководством Паскевича после сражения при Арсисе, где вновь маршал Ней потерпел поражение, подошли к воротам Парижа. Десять лет непрерывных боевых действий, в которых участвовал Иван Федорович, снискали ему славу полководца, а в солдатской среде он получил прозвище "храбрый". По окончании войны с Наполеоном Паскевич вернулся со своим корпусом в Смоленск. Здесь он познакомился с помещиком Алексеем Грибоедовым и в 1817 году женился на его дочери Елизавете Алексеевне. Незадолго до кончины Александра I Персия нарушила Гюлистанский трактат и заняла пограничные с Карабахом земли. Мирные инициативы императора Николая I ни к чему не привели. В 1826 году кончились мирные дни для генерала Паскевича. По решению Николая I он был отправлен на Кавказ командовать корпусом под общим руководством Главнокомандующего войсками в Грузии генерала А.П.Ермолова. Тогда Персия располагала значительными военными силами. Регулярная пехота, подготовленная английскими офицерами, состояла из 38,5 тысяч человек, кавалерия составляла 94 тысячи. Турецкий султан был на стороне персидского шаха. Первое сражение с Аббас-Мирзой, наследником шаха, имевшего под началом 30 тысяч войск, произошло в близи Елисаветполя (Ганджа, Кировобад). У Паскевича было 7 тысяч пехоты и кавалерии. Он построил свои войска в расчлененных боевых порядках — пехотных каре и колоннах в сочетании с рассыпным строем стрелков. Пехоту поддерживала артиллерия, а на флангах кавалерия. В результате боя персидское войско было наголову разбито и бежало за Аракс вместе с английскими и французскими инструкторами. Закавказье было полностью очищено от персов. В марте 1827 года Паскевич принял главное начальство над отдельным Кавказским корпусом со всеми правами вместо генерала А.П.Ермолова. В мае персы опять начали боевые действия в Закавказье. Паскевич, прикрыв свой тыл частью войск за рекой Аракс, обложил остальными войсками Эривань (Ереван). Тем не менее Аббас-Мирза попытался нанести удар во фланг нашей армии в районе Нахичевани, но был разбит Паскевичем, и персы в панике бежали в горы. Вслед затем крепости Аббас-Аббад и Сардар-Аббад, построенные под наблюдением англичан, сдались на милость победителя. Подведя осадные орудия к стенам Эривани, Паскевич начал бомбардировку крепости. Тогда Эривань представляла собой лучший крепостной оплот Персии. На рассвете 1-го октября крепость Эривань была взята. В этом во многом способствовало армянское население города. Преследуя Аббас-Мирзу, русские войска, овладели Тебризом, находившемся в северной части Ирана высоко в горах. Шах бежал из Тегерана. 28 ноября 1827 года Аббас-Мирза подписал два протокола, по которым к России отходили Ереванская и Нахичеванская провинции, и обязательство выплаты военных издержек. Однако шах Ирана под давлением Турции не согласился с этими протоколами. Вследствие этого Паскевич, овладев городами Урмия и Ардебиль, направился прямо к Тегерану. 10-го февраля 1826 года в деревне Туркманчай был подписан мирный договор между Персией и Россией. Этот договор сохранял свою силу до октября 1917 года. 15-го марта 1828 года высочайшим рескриптом за славное окончание войны и заключение выгодного мира Паскевич возведен в потомственное графское достоинство с наименованием Эриванского. Победы Паскевича в войне избавили народы Закавказья и Дагестана от порабощения, физического истребления иранскими завоевателями и положили конец агрессивным устремлениям Англии, Франции и Турции. Народы Грузии, Армении, Азербайджана и Дагестана получили возможность национального развития. В апреле 1828 года началась 8-я русско-турецкая война, Россия совместно с другими европейскими странами участвовала в разделе Османской империи на европейском континенте. Для отвлечения части сил с Дунайского театра на восток Паскевич еще в марте получил рескрипт императора, где было указано в связи с начавшейся войной с Турцией покорить два пашалыка: Карский и Ахалцихский и крепость Поти. Граф Паскевич для выполнения поставленной задачи имел в наличие в Закавказье 25 тысяч войск, которые делились на три части: войска, оставленные на границе для обеспечения поступления контрибуции. Вторая часть войск была оставлена для сохранения внутреннего спокойствия и повиновения жителей Закавказских областей, оградив их от набегов мусульманских горских народов. Таким образом, Паскевич мог вывести на турецкую границу только 12 тысяч против 50 тысяч турок. Турки со своей стороны готовились начать кампанию и обеспечить себе успех. К тому же исламское духовенство призывало народ к оружию в борьбе против христиан. В середине июня Паскевич перешел границу и подошел к Карсу. Здесь, развивая суворовскую тактику, он заменил каре колоннами. При таком построении пехота могла тотчас построить каре против кавалерии, а наша кавалерия прикрывалась пехотой. Крепость Карс представляла собой двойной ряд зубчатых стен и множество башен и укрепленных предместий. Гарнизон крепости состоял из 11 тысяч человек. Искусно направленные Паскевичем колонны под прикрытием артиллерии бросились на штурм. Утром 23 июня крепость была взята, но турки не сразу сдались, ожидая помощи. Тогда Паскевич направил к ним требование: "Пощада повинным, смерть непокорным, час времени на размышление". Так в истории неприступная крепость впервые была взята русскими войсками. Известно, что со взятием крепости граф Паскевич объявил жителям всеобщее помилование, законы турецкие остались неприкосновенными, а власть судебная осталась за кадием и муфтием. Взятие Карса привело в ужас турецкое войско и при самом начале кампании русское оружие приобрело славу непобедимого. Тяжелые климатические условия, отсутствие дорог, необходимость тащить на себе артиллерию, возы с продовольствием, питьевой водой и боеприпасами составляли чрезвычайную трудность похода. Обманув турок, Паскевич вместо Эрзерума двинулся на Ахалкалак. Подойдя к крепости на короткое расстояние, войска Паскевича под прикрытием артиллерии пошли на штурм. Сдавшиеся были помилованы, а не сдавшиеся были уничтожены. Покорив Ахалкалак (Ахалкалаки, Грузия), Паскевич пошел к Ахалциху (Ахалцихе, Грузия), на пути к которому высоко в горах находилась небольшая крепость Гертвис (Хертыс). Два предшествующих штурма настолько напугали турок, что они сложили оружие без сопротивления, и крепость Гертвис была взята. Одновременно войска корпуса овладели крепостью Поти. Преодолев горные хребты и леса, корпус Паскевича подошел к Ахалциху. Разгромив резервные войска турок, прикрывавшие крепость, Паскевич предложил турецкому гарнизону сдаться. Через 4 дня пошел на штурм. Ожесточенный бой в городе продолжался сутки, пока, наконец, турки не сдались. 250 лет крепость эта никем не была взята. Но граф Эриванский взял ее своими 14-ю тысячами против 30 тысяч оборонявшихся. Жители города Ахалциха были обеспечены денежным довольствием, а раненые врачебной помощью. Вслед за этим были взяты крепости Ацхур и Ардаган. Таким образом, менее чем за два месяца указания императора были выполнены. Турецкая армия была разгромлена, лишившись знамен и пушек, и рассеяна на огромной территории. Но Паскевич хотел упрочить свои завоевания. Вслед за этим был взят Баязетский пашалык, поселения Диадин и Топрах-кале и русский флаг был поднят на левом берегу Евфрата. Громкие победы Паскевича привели к тому, что кавказские мусульманские горцы всегда беспокойные и к нам неприязненные спешили присягать русскому императору в верности. Турецкий султан, готовясь к возвращению завоеванных турецких земель и крепостей, к весне 1829 года предполагал иметь 200-тысячную армию. Паскевич, несмотря на пополнение корпуса новобранцами, мог противопоставить туркам 16 тысяч войск. Понимая, что этого совершенно недостаточно, он заключил союз с курдами, который обеспечивал ему прикрытие левого фланга. В это время в Тегеране был убит А.С.Грибоедов. Почувствовалась угроза Закавказью с иранского и турецкого направлений. Попытка Паскевича собрать ополчения из закавказских народов привела в ряде случаев к волнениям и восстаниям, особенно в Грузии. Зашевелились вновь мусульманские горцы. Однако граф Эриванский сумел успокоить эти волнения без кровопролития. Первое сражение с турками произошло при деревне Чабория при соотношении сил 7 тысяч против 15 тысяч турок. Враг был разбит. Черноморская эскадра под командованием вице-адмирала А.С.Грейга доставила в ромощь Паскевичу два маршевых батальона и 2 тысячи рекрутов. В целом войска Паскевича насчитывали около 20 тысяч человек. В составе нерегулярной кавалерии находились 4 мусульманских полка, набранных за Кавказом, а также конница из Нахичеванской провинции. Продвигаясь к Эрзеруму, граф Эриванский обнаружил 20-тысячный корпус Гакки-паши, прикрывающий Эрзерум. Обманным путем, зайдя с другой стороны, русские войска ударили там, где противник их не ждал. Это сражение наблюдал Александр Сергеевич Пушкин. Несмотря на свою занятость, граф Паскевич уделил поэту большое внимание. Пушкин убедился в том, что полководец знал его поэзию. Русские войска двинулись прямо по дороге на Эрзерум. Подошедший с правого фланга 12-ти тысячный корпус сераскира, спешивший на помощь Гакки-паше, был разбит и обращен в бегство. Граф Эриванский не упустил возможности нанести поражение остаткам армии Гакки-паши. Две одержанные победы и взятие крепости Гассан-Кале решили участь Эрзерума. Город был взят без боя. Со времен владычества римлян впервые христианское знамя было поднято над городом. Но преподанный туркам урок не пошел им впрок. Они вновь начали сосредотачивать свои силы в районе города Байбурта и в самом городе. Граф Эриванский штурмом овладел этим городом и уничтожил большую часть турецких войск. Это было последнее сражение в войне 1829 года. К сожалению, по Андрианопольскому трактату большая часть завоеваний графа Эриванского возвращалась Турции. Через 114 лет на переговорах с союзниками в ходе 2-ой мировой войны Сталин ставил вопрос о присоединении к Советскому Союзу части территории Турции. Это было в качестве наказания за армянский геноцид и попытку Турции выступить на стороне Германии в случае падения Сталинграда для образования великой мусульманской империи от Стамбула до Казани. Тогда же в 1829 году действия Паскевича Эриванского значительно облегчили положение русских войск на Балканах. За достигнутые победы граф Иван Федорович Паскевич Эриванский был удостоен звания генерал-фельдмаршала. С захваченных им турецких земель от гнета турок бежало в Закавказье 90 тысяч человек. Иван Федорович принимал деятельное участие в их обустройстве на новых местах. И казалось бы, деятельность Паскевича на Кавказе заканчивалась, но в это время он получил от императора повеление о необходимости полного усмирения непокорных кавказских племен, В связи с этим фельдмаршал полагал привлечь часть выходящих из Турции войск на Северный Кавказ для наведения порядка в Дагестане, Чечне и в Закубанской области. Паскевич был ярый противник кровопролития, беседовал с имамами, со старшинами племен, стараясь мирным путем разрешить создавшееся положение. Обстановка заставила Паскевича перенести свой командный пункт из Тифлиса в Пятигорск. Безусловно, имевшие место грабежи и дикие набеги орд горцев подавлялись войсками. Но главным делом графа Паскевича была забота об устройстве края, об учреждении законов с учетом мусульманских правил и традиций. Много добрых дел хотел граф сделать, но не успел, так как в апреле 1831 года император отозвал его в Петербург. Весть об отъезде фельдмаршала была принята в Тифлисе и во всех провинциях Кавказа с большой печалью. Автор: В.Г.Лебедько, кандидат военных наук, контр-адмирал. Статья «Князь Варшавский» https://flot.com/blog/historyofNVMU/4218.php Жена - Елизавета (дочь статского советника Алексея Фёдоровича Грибоедова (1769—1833) от первого брака с княжной Александрой Сергеевной Одоевской (1767—1791). По отцу приходилась двоюродной сестрой писателю и дипломату А. С. Грибоедову; по матери — В. Ф. Одоевскому и была в дальнем родстве с Пушкиным. Источники: Князь А. Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. В 2-х томах. — СПб.: Издание А. С. Суворина, 1895. — т. 1. — с.166. Вел. кн. Николай Михайлович. Московский некрополь. В 3-х томах. — СПб., 1907. — т. 1. — с. 330. Сейчас Эриванская площадь - площадь Свободы в Тбилиси. Улица Паскевича в настоящее время -ул. Кикодзе. ---
Снегиревы | | |
|